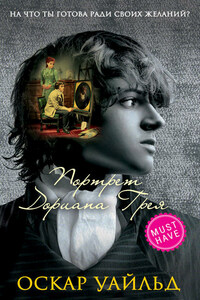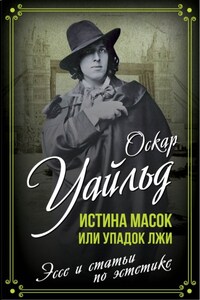Художник – творец прекрасного.
Раскрыть творение и скрыть творца – вот в чем предназначение искусства.
Критик – тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.
Высшая, как и низшая, форма критики – это своего рода автобиография.
Те, кто в прекрасном видит уродливое, – люди безнравственные, но безнравственность не делает их привлекательными. Это порок.
Те, кто в прекрасном видит признаки красоты, – люди нравственные. Они не полностью безнадежны.
Но только избранные видят в прекрасном одну лишь Красоту.
Нет книг нравственных или безнравственных. Книги написаны или хорошо, или плохо. И в этом вся разница.
Враждебность девятнадцатого века к Реализму – это ярость Калибана[1], увидевшего в зеркале свое отражение.
Враждебность девятнадцатого века к Романтизму – это ярость Калибана, не видящего в зеркале своего отражения.
Нравственная жизнь человека – лишь одна из сторон творчества художника, а нравственность Искусства – в совершенном применении несовершенных средств. Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.
У художника нет этических пристрастий. Этические пристрастия художника порождают непростительную манерность стиля.
У художника не бывает болезненного воображения. Художник вправе изображать все.
Мысль и Слово – инструмент, которым художник творит Искусство. Порок и Добродетель – материал, из которого художник творит Искусство.
Если говорить о форме, эталоном для всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве – искусство актера.
Всякое искусство в одно и то же время поверхностно и символично. Те, кто пытается проникнуть глубже поверхности, идут на риск. Те, кто пытается разгадать символы, тоже рискуют.
Искусство – зеркало, но отражает оно смотрящего, а не жизнь.
Если произведение искусства воспринимается неоднозначно, – значит, в нем есть нечто новое, сложное и животрепещущее.
Если критики расходятся во мнениях, – значит, художник верен самому себе.
Можно простить человеку создание полезной вещи, если только он ею не восторгается. Но того, кто создает нечто бесполезное, может оправдать лишь безмерное восхищение своим творением.
Всякое Искусство бесполезно.
Студию наполняло пьянящее благоухание роз, а когда по деревьям сада пробегал легкий летний ветерок, через открытую дверь доносился густой запах сирени, перемежающийся с более нежным ароматом розовых цветков боярышника.
На диване из персидских седельных вьюков лежал лорд Генри Уоттон, по обыкновению куря одну за другой бесчисленные сигареты; через проем двери ему был виден объятый желтым пламенем цветения куст ракитника, сплошь увешанный длинными, вздрагивающими при каждом колебании воздуха кистями душистых, будто мед, цветков, золотым дождем струящихся с тонких веток, гнущихся под тяжестью этого сверкающего великолепия; время от времени по длинным шелковым занавесям, закрывающим огромных размеров окно, проносились причудливые тени пролетающих птиц, на мгновение создавая иллюзию, будто окна украшены творениями японской живописи, и мысли лорда Генри обращались к желтолицым художникам Токио, неустанно стремящимся передать ощущение стремительного движения средствами искусства, по природе своей статичного. Монотонное гудение пчел, с трудом проталкивающихся сквозь высокую нескошенную траву или с неустанной настойчивостью кружащих над полными золотистой пыльцой цветками буйно разросшейся жимолости, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона напоминал непрерывно звучащую басовую ноту отдаленного органа.
Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, изображенного во весь рост, а перед мольбертом, на небольшом от него расстоянии, сидел и сам художник, Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение за несколько лет до этого так взволновало общество и породило массу самых невероятных предположений.
Художник смотрел на искусно созданный им на полотне образ прекрасного, грациозного юноши, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, будто стараясь удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь пробудиться.
– Это лучшее твое произведение, Бэзил, самое замечательное из всего, что написано тобой, – томно проговорил лорд Генри. – Тебе обязательно нужно послать портрет в следующем году на выставку в Гроувенор[2]. В Академию не стоит: у них слишком много полотен и слишком мало вкуса. Когда туда ни придешь, там или столько людей, что не увидишь картин, – и это само по себе ужасно, – или же столько картин, что не увидишь людей, а это еще хуже. Нет, только в Гроувенор, и никуда больше.
– А я, собственно, не собираюсь его выставлять, – ни в Гроувеноре, ни где-нибудь в другом месте, – отозвался художник, откинув назад голову в свойственной ему странной манере, над которой, бывало, подтрунивали его товарищи в Оксфордском университете. – Нет, никуда я его не пошлю.
Подняв брови, лорд Генри удивленно взглянул на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми тонкими кольцами поднимавшийся от его насквозь пропитанной опиумом сигареты.
– Никуда не пошлешь? Но почему, дорогой мой? Что за причина? Странный вы народ, художники! Из кожи вон лезете, чтобы добиться известности, но, как только она приходит, не ставите ее ни в грош. Это ведь глупо! Конечно, нет ничего хорошего, когда о тебе говорят слишком много, но еще хуже, когда о тебе вовсе не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, намного выше всех молодых художников Англии, а у старых вызвал бы чувство зависти, если старики вообще способны испытывать хоть какие-то чувства.
– Знаю, ты станешь надо мной смеяться, – отозвался художник, – но я и в самом деле не могу его выставлять: слишком много вложил я в него самого себя.
Лорд Генри расхохотался, потянувшись на диване всем телом.
– Ну вот, я знал, что ты будешь смеяться, и, тем не менее, это так и есть.
– Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я и не подозревал в тебе такого самомнения. Я не вижу ни малейшего сходства между тобой, с твоими крупными, волевыми чертами лица, с черными как смоль волосами, и этим юным Адонисом, словно сотворенным из точеной слоновой кости и лепестков роз. Понимаешь, дорогой Бэзил, он – Нарцисс, тогда как ты… Ну конечно, лицо у тебя интеллектуальное, и все такое прочее, но красота, подлинная красота, заканчивается там, где начинается интеллектуальность. Интеллект уже сам по себе аномалия, ибо нарушает гармонию лица. Стоит человеку о чем-нибудь задуматься, как у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или происходит еще что-нибудь ужасное с его лицом. Взгляни-ка на выдающихся личностей любой ученой профессии – до чего же они уродливы! Исключение составляют, пожалуй, одни лишь церковники, но они ведь никогда не напрягают мозгов. Восьмидесятилетний епископ продолжает твердить те же истины, которым его научили, когда он был восемнадцатилетним юнцом, поэтому неудивительно, что на него всегда приятно смотреть. Твой таинственный юный друг, чье имя, кстати, ты мне никогда не называл, но чей портрет меня так завораживает, вряд ли когда-нибудь о чем-либо думает. Я совершенно в этом уверен. Он безмозглое очаровательное существо, на чье изображение будет всегда приятно смотреть, – и зимой, когда нет цветов, и летом, когда захочется остудить разгоряченный мозг. Не льсти себе, Бэзил: ты ничуть на него не похож.