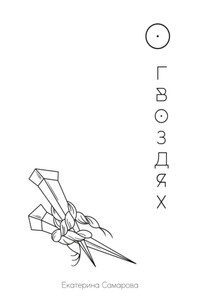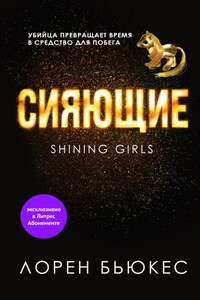Собака шла, равнодушно помахивая крылом. Пропадая в тени и вновь возникая в ломаном свете фонарей, странное трехногое созданье ничуть не тяготилось отсутствием четвертой конечности, ладно и привычно используя для опоры перьевое полукружье.
Крыло впархивало и опадало, перламутрово отражая ленивую зыбкость освещения. Там же, где желтые лучи вдребезги разбивались о мутные зеркала луж и застывали в воздухе испуганными блестками, перья обретали совершенную прозрачность, прорисовываясь лишь волнистым контуром, пропуская сквозь себя шершавую неровность парапета, любознательные человечьи ноги, вопросительный знак поводка.
Хозяйка пса шествовала чуть сзади, ведомая собакой. Уходя в тень, становилась старой, морщинистой, сухой, с провалами щек, глаз, рта. Выплывала же на свет вполне молодой особой – торчащий подбородок, легкий прищур, рассеянная улыбка привыкшей к вниманию красавицы.
Рядом со странной парой на набережной то и дело образовывались парочки и целые группки гуляющих. Смутно просматривались силуэты, безликие пятна лиц. Ни пола, ни возраста, ни настроения не различалось вовсе. Зато собака и женщина виделись ясно, четко, до неровно выстриженной бородки на нагловатой мордахе пса или тонкой родинки на виске хозяйки.
Еще больше поражало, что крылатая собака не вызывала у окружающих никакого интереса. Вот кто-то приостановился, погладил животное и пошагал дальше, ничуть не озаботившись крылом.
Получается: крыло – чудится?
Приехали. Догулялась. Допереживалась. Глюки пошли, словно Ромкиных грибов хватанула… Крыло у собаки… Дура! Скорей бы мост свели, домой, спать. Сколько она уже не спит? Сутки? Двое? Неделю?
* * *
Дождь кончился, и под Биржевым мостом открылись пять голубых тоннелей. Входы. Внутри – сияние. Внутри – ясное небо. Такое случается в солнечный день, когда от счастливого восторга дрожат руки, вспоминая, как были крыльями, и до крика хочется воспарить, и совсем не жалко раствориться прозрачным лучом в этой зовущей вышине.
Есть ли движение вокруг, нет ли – не видно. Свет, выплескивающийся из реки, приклеил глаза и задавил все прочее – над, справа, слева – вокруг. Или и нет больше ничего? Арка моста да входы под ней.
Прищурь глаза, и тоннели выстроились в цепочку теплых надежных валунов, соединяющих берега. Брод. Мост-то разведен, вот Нева и постаралась. Надо на тот берег – милости просим! Дойдешь ли – вот вопрос. Самих берегов не видно: синие лезвия лучей, выстреливающие из тоннелей, разваливают темноту на тягучие неровные ломти. Темнота осыпается в воду и уходит на дно, утаскивая с собой блескучее крошево. По дну оно приплывает к безднам и вновь сливается в лучи. Круговорот.
От света, сияния и голубизны над водой – вполне осязаемый звон. Он заполняет уши, забирается под ногти, делает колким и невесомым тело. Будто бы кто-то зовет, будто манит. Кто-то…
Кто?
Рома?!
Конечно! Прислушаешься и —
«Юля-я…» – мелкие волны ладошками шлеп-шлеп…
«Юля-а-ша…» – гранит на них шикает…
Придумал! Значит, и входы – Ромкина работа? Чтобы не плутала понапрасну, а поняла, как его найти?
Входы. Выйдешь ли – войдя? Выходы где-то на той стороне. То ли моста, то ли мира… А зачем выход, если там – Рома?
Сегодня у него день рожденья. Праздновали бы вместе тут, у воды. Она обещала испечь праздничный пирог…
Вот он, тот самый праздничный пирог – зализанная ласковой Невой Стрелка. Ночь завистлива. Задула свечки Ростральных колонн, теперь они обиженно дожидаются рассвета. Рядом взъерошил серебряные крылья Дворцовый, будто приготовившаяся к полету гигантская птица.
Обман, каждую ночь – обман! И пирог несладкий, и птице этой никогда не взлететь – разучилась.
За спиной – город. Не поворачивайся – не увидишь. Не увидишь – не захочешь назад. Одна дорога – через эти синие переходы к Роме.
Рома. Больно! Произнесешь имя, тут же дернет, будто нагноившаяся заноза на пальце, только палец – она сама. Вся. Поэтому боль отдается сразу везде. И мешает думать. И дышать. И жить.
Времени темноты – два часа. Потом – день без него. Зачем?
Рассвет скрадет голубое сияние, выровняет воздух, высосав из него до небесного донышка таинственную ночную силу. И бездны-входы погаснут. Останется пустота. Надо решаться сейчас.
– Юля-а-а!
Вокруг – никого. Ладонями – в шершавый гранит парапета, приподнять тело, перебросить ноги и просто шагнуть. Нет, лучше прыгнуть, чтоб не шлепнуться в воду, а сразу попасть в один из входов. Парапет широкий. Если разбежаться, можно допрыгнуть.
– Стой!
Чей это голос? Да и голос ли? Мерещится. Верно, просто волны шуршат или мелкая пыль шепчется под ногами… А будто голос. Знакомый, много раз слышанный, хоть и забытый. Строгий, заботливый.
– Сойди с парапета! Сию секунду!
– Сошла, – оробев, неизвестно кому доложила Юля.
– Его здесь нет. И не пытайся идти, пока не узнаешь путь!
Недовольными песчинками просыпался из тела вибрирующий звон, пригасло манящее сияние бездн, обратившись в скучное отражение мостовой подсветки, прорисовались темные берега.
Все правильно, Ромы тут нет. И прыгать в воду – бессмысленно. Искать – да, надо, но не здесь.
Как вдруг она это поняла? Откуда? Только что – неизвестность и маета, и вот – безо всякого перехода. Как жирная точка в конце предложения. Не со слов же какого-то непонятного голоса! Голос, ясно, она сама. Разум или что там еще руководит человеком? Второе я, что умнее и рассудительнее первого. Помогает. Кто еще поможет? Одна.
Одна? Но одиночества, что глодало и сушило в Москве, от которого выла в голос, заглушая себя музыкой, и в помине нет! Тоска по Роме – да. Черная, колючая. Все внутри раскорябала, аж саднит. Губам горько, оближешь – тошнит, как анальгин жуешь. Глаза все время влево, на Рому, рука сама пальцы растопыривает, чтоб с Ромиными сплестись. А – пустота. Под пальцами и перед глазами.
В Москве она бы уже умерла. Чужая среди чужих – стен и людей – точно бы умерла. А тут – дома. Всякий шпиль над Невой, всякий мост и канал, и сад, и решетка – все знакомо, все на своих местах. Как мебель в квартире, которую сам расставил. Чтоб удобно. И красиво. Дома любую потеряшку найти можно. И Ромка найдется. Город поможет.
* * *
Этот июль вернул ей то, что украли два года Москвы.
Город.
До щекотки в кончиках пальцев, до счастливых мурашек под мышками. Вдруг стали осязаемыми холодные и теплые течения невской воды, сумеречно-радостные или кричаще-кичливые краски небосвода, потайное движение любопытного воздуха, мельтешенье в нем, прозрачном и тугом, миллионов и миллиардов чьих-то мыслей, вздохов, улыбок, эмоций – чувств. Она сама, распавшаяся на молекулы, стала этим воздухом. Смехом и слезами, мостами и реками, солнцем и темнотой, домами и тротуарами. И даже ногами, спешащими по этим тротуарам. Если мизинец цеплялся за чью-то улыбку, она радовалась, и – наоборот – печалилась, вдруг споткнувшись о чье-то горе, вросшее в щербинку асфальта. Город, потерянный на два бесконечных года, заново входил в нее, и она множилась в нем, становясь частью целого, познавая через себя – его. Ежесекундно растворяясь в нем, не теряла ни крошечки, напротив, наполнялась его силой, становясь настоящей собой, вбирая его в себя и становясь им.