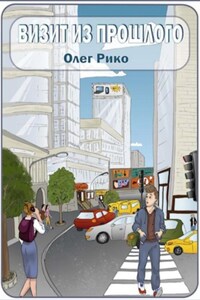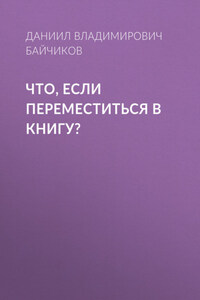1620
– Ведьма она. Это однозначно. Изловить и сжечь стерву.
– Да, ваша светлость. Я понял вас. Мы непременно найдем ее. Куда ей, собственно, деваться?
– Я бы на твоем месте не был бы столь самоуверен. Эта бестия весьма умна и невероятно изворотлива. Впрочем, это вполне закономерно. Она же настоящая ведьма в отличие от тех трех дурех, что мы сожгли в прошлую пятницу.
– Мы найдем ее, ваша светлость.
– Ну да… Ну да… Попробуй только не найти и тогда сам погреешь свою задницу, мальчик мой. – Освальд со зловещей ухмылкой осмотрел своего выглядевшего абсолютно невозмутимым собеседника и, грузно переминаясь с ноги на ногу, вышел из комнаты.
– Сволочь, – беззвучно, одними тонкими, бескровными губами пробормотал Адриан и, обхватив руками голову, без сил рухнул в кресло.
Бессильная, жгучая ярость переполняла его. С ее атаками невозможно, почти невозможно было справиться – до безумия, до дрожи хотелось кинуться на кого-нибудь и порвать в клочья.
Домой? Туда, где горячий ужин и теплая постель?
Нет. Только не это – Адриан с отвращением сморщился.
Сегодня он точно не сможет лицезреть никого из почтенных и благородных представителей человеческого рода.
Сегодня ему нужны только две вещи – тишина и одиночество.
Да – Адриан сможет обрести их хотя бы на время, хотя бы на одну, на сегодняшнюю ночь – в своем тайном прибежище, в хижине, щедро дарованной ему умирающим на его руках отшельником.
В этом мире только молчаливые, теплые, потемневшие от сырости, бревенчатые стены могут хоть как-то успокоить его, помочь восстановить силы что бы…
Что бы что?!!
Адриан сжал зубы, медленно поднялся, подошел к окну и с мрачным укором уставился на небо.
Что бы ЧТО?!!
Адриан прикрыл на секунду глаза, вдохнул глубоко, резко, с остервенением выдохнул и подошел к зеркалу. Да, все более чем отлично – на лице нет и следа той дикой, звериной ярости, что клокочет у него внутри.
Все же он достоин щедрой похвалы, потому что великолепно владеет собой. Да, без способности скрывать свои чувства он не смог бы достичь того положения, что сейчас имеет. Шикарного положения, надо отметить. Без ложной скромности, без ложной скромности, можно сказать – Адриан насмешливо хмыкнул – жизнь его удалась на славу…
Многие его знакомые без скупости отдали бы несколько отмеренных им лет, что бы пожить хотя бы недельку в тех сказочных условиях, что мог запросто позволить себе Адриан…
…А Адриан отдал бы не раздумывая и всю свою жизнь и все шикарные условия разом – просто так, ни за что, только потому что обрыдло все. Надоело. Не интересно. Скучно. И нет никакого смысла. Нет никакого смысла в том, что он делает, в том чему он посвятил всю свою жизнь. Да, шут с ним со смыслом – он мерзок сам себе, он полное ничтожество! Нелюдь, у которого нет сердца. Убийца.
Правда, если быть совсем уж честным – все это пустые слова, демагогия, лирика. Если все обстоит именно так, то почему он, тот, в чьих руках ни разу не дрогнул кинжал, никак до сего дня не смог решиться оборвать свое жалкое и никчемное существование? Удивительное дело, но Адриан точно знал, что помешали ему это сделать вовсе не страх и не малодушие.
Что-то другое останавливало его, какая-то смутная сила, неясное предчувствие. Вот только предчувствие чего? Того, что не все еще им сделано на этом свете? А что именно – не все? Не все ведьмы сожжены что ли? Адриан мрачно усмехнулся – так это же давно ясно, что жгут они простых, ни в чем не повинных деревенских баб, а настоящая ведьма никогда не допустит, что бы ее обнаружили и тем более – сожгли…
Так что же мешает ему освободиться? Вырваться из мерзкой, липкой паутины, что держит его в этом мире?
Может странные слова отшельника, которые тот выдохнул вместе с последним глотком воздуха в лицо Адриану? Слова были о том, что дверь в его хижине открывается только для того, кто ищет путь и имеет смелость идти. Адриан долго думал об этом. Что имел в виду старик? Что может искать человек с мертвый душой, такой как у Адриана? Счастья? Это смешно, счастья в принципе нет и быть не может. Любви? Ее тоже не существует. Все, о чем слагают песни и легенды по сути – инстинкт размножения и только. Искупления грехов? Это бессмысленно – грехи Адриана слишком тяжелы, их не искупить никакими молитвами, никакими жертвами – их не искупить ничем… Адриан отдает себе в этом отчет.
Ладно, хватит уже сантиментов. Надо пойти и напиться. До беспамятства. Это единственное правильное решение на сегодняшний день.
Адриан поправил плащ, мрачно взглянул на свое отражение, ухмыльнулся ему недобро – так словно это был не он сам, а самый заклятый его враг, и неспешно вышел из комнаты.
А ведь он ее поймает эту ведьму. Адриан всегда выполнял поручения Освальда. Он был отличным, нет лучшим охотником – на ведьм.
Никто не обещал, что будет легко.
Но он сделает это – чутье Адриана еще никогда не подводило…
2012 год. (1977) – 35, 57
Хочется убежать, спрятаться, скрыться.
Хижина в зарослях глухого леса с неторопливо ползающими по покрывалу – серо-грязному, местами драному, заляпанному какой-то дрянью, насекомыми, вполне сгодилась бы. Нет, просто идеально подошла бы. А самое главное, чтобы пол был обязательно плотно утоптанный, земляной, стылый…
И чтобы сквозь худые, дощатые стены ощутимо задувал ветер. Вечером приятный, теплый, ласкающий после изжаривающего дневного зноя, а под утро – промозгло сырой и холодный, такой колючий, что бы почти в клочки разодранное одеяло уже и не помогало, не спасало от колотящего озноба никак, что бы уже не согреться.
Мерзко. Зябко. Уныло. Безнадежно.
И очень хочется туда, в хижину. Прямо на земляной пол – встать босыми, затекшими со сна, ногами, неторопливо спустив их с кровати, ощутить ступнями отстраненно прохладное, но все же живое, нервно пульсирующее, измученное тело Земли. Постоять, замерев, пару мгновений, прислушаться к чему-то неясному стрекочущему и шуршащему в кишащем живностью и паразитами организме леса и резко шагнуть в незапертую дверь – наружу, в опасный хищниками, болезнями и бандитами мир. Нырнуть прямо в густую, по пояс траву, умыться росой, вдохнуть жадно, словно выпить глоток утренней густой от тумана прохлады и потерять себя. Насовсем. Ну или хотя бы на мгновение. Кто я? Где? Зачем? Человек в непроходимой чаще? Женщина тридцати пяти лет, сбежавшая из дома в глухой лес? Приличная вроде с виду женщина… Ухоженная. Современная. С маникюром и холеным лицом.
У нее случались время от времени такие вот странные провалы в сознании – когда, оставаясь вроде бы здесь же, на том же, где и была еще секунду до этого, месте, в автобусе, например, или в страстных объятиях мужа, она вдруг, словно очнувшись, слегка растерянно пыталась осознать заново, словно впервые увидев, себя и те предметы, которые ее окружали. Она женщина? Рядом с ней мужчина? Надо же, как это… Как же это все-таки выразить словами? Удивительно как-то, и сложно для принятия. Словно до этого момента она находилась где-то не здесь, причем очень долго была занята чем-то, полностью поглощена, сосредоточена, а потом ни с того, ни с сего вдруг очутилась в другом – странном, непонятном мире, в чьем-то чужом, неудобном, как неразношенные туфли, таком отталкивающе неродном теле. В теле этой черноволосой женщины, с широкими скулами, например… А этот красавец – мужчина с накачанными бицепсами ее собственный муж? Надо же, как ей повезло, оказывается. А это ее собственная рука? Изящная, надо отметить, с узким, аристократическим запястьем. И что теперь со всем этим делать? С атлетом – мужем и… запястьем? Пользоваться как-то? Применять в быту? Вести обыденное существование дальше – словно все в порядке вещей? Но… Как-то неловко, некомфортно продолжать жить, как ни в чем не бывало, когда ощутимо, буквально физически чувствуешь, что еще мгновение назад тебя тут не было. А где? Где же она тогда была? Она не могла вспомнить точно – только какие-то смутные отголоски чего-то далекого, очень светлого и заманчивого мелькали где-то в мутных, закрытых для понимания, глубинах сознания – одни неясные обрывки, эйфорические всполохи – без подробностей, без конкретики. Ощущение чего-то упоительного, обволакивающего, как теплые, нежные волны тропического океана, как оберегающая собою от всего инородного, страшного и злого, утроба матери. Как же уютно и покойно там было – она не должна была этого помнить, разумеется, но почему-то помнила – отчетливо и ясно. Помнила не картинками, как всю свою сознательную жизнь, а чувствами, тактильно – кожей, ментально – никогда более не испытанным абсолютным спокойствием ума, а еще душою – волшебным, окутывающим облаком безусловной любви.