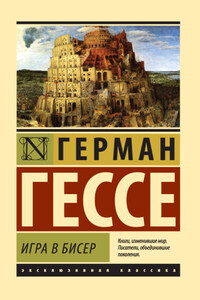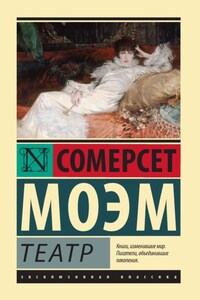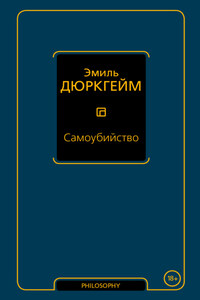Мы настолько не привыкли к научному восприятию явлений общественной жизни, что некоторые положения, излагаемые в данной книге, способны удивить читателя. Впрочем, если наука об обществах вообще существует, то, конечно, не следует ожидать, что она будет представлять собой простой пересказ традиционных предрассудков. Скорее она должна побуждать нас к тому, чтобы мы смотрели на мир иначе, нежели это делает обычный человек, поскольку цель любой науки состоит в открытиях, и все такие открытия в большей или меньшей степени опровергают общепринятые мнения. Посему, если в социологии не приписывать здравому смыслу той авторитетности, которой он ныне лишен, но которой длительное время обладает в прочих науках (совершенно непонятно, откуда она, собственно, берется), ученый должен твердо решить для себя, что его не испугают возможные итоги исследований – при условии, что эти исследования проводились с соблюдением методологии. Если считать приверженность поиску парадоксов свойством софистики, то стремление бежать от нее, когда того требуют факты, нужно признавать качеством ума, лишенного храбрости и веры в науку.
К сожалению, куда проще принять это правило в принципе или теоретически, чем последовательно его применять. Мы до сих пор склонны рассматривать все подобные вопросы в соответствии с подсказками здравого смысла, каковые непросто исключить из социологической дискуссии. Мы считаем себя свободными от уз здравомыслия, однако оно исподволь навязывает нам свои суждения. Только особая устойчивая практика в состоянии устранить этот недостаток. Просим нашего читателя постоянно помнить об этом обстоятельстве. Нужно осознавать, что образ мышления, с которым мы лучше всего знакомы, на самом деле не столько благоприятствует, сколько вредит научному осмыслению социальных явлений, а потому, следовательно, необходимо остерегаться первых впечатлений. Если уступать им без всякого сопротивления, читатель, вполне возможно, составит мнение о нашем труде, не постигнув его сути. Например, он может обвинить нас в попытках оправдать преступления – на том ложном основании, что мы рассматриваем последние как нормальные социологические явления. Но подобное возражение будет поистине ребячеством. Ведь если преступления обыденно совершаются в любом обществе, то столь же обыденным должно быть и наказание за них. Утверждение системы подавления – факт повсеместный, как и само существование преступности, а наличие этой системы существенно необходимо для обеспечения коллективного благополучия. Отсутствие преступности требует устранения различий между индивидуальными сознаниями до такой степени, каковая – по причинам, излагаемым ниже, – фактически невозможна и нежелательна. Но для отмены репрессивной системы требуется отсутствие моральной однородности, несовместимой с существованием общества. Исходя из того факта, что преступление одновременно отвратительно само по себе и вызывает отвращение других, здравый смысл ошибочно делает вывод, что преступность не может исчезнуть достаточно быстро. В духе своей привычной наивности здравый смысл не в состоянии допустить, будто нечто отталкивающее может приносить какую-то пользу. Между тем здесь нет противоречия. Разве физический организм не обладает некими отвратительными функциями, регулярное отправление которых необходимо для здоровья человека? Или разве не страшимся ли мы страданий? Но все же тот, кому они неведомы, будет чудовищем. Нормальность чего-либо и чувство отвращения, которое ею вызывается, могут даже быть тесно связаны. Если боль нормальна, ее тем не менее стараются избегать; если преступление является нормальным, его все равно осуждают[1]. То есть наш метод отнюдь не выглядит революционным. В каком-то смысле он даже консервативен, поскольку настаивает на рассмотрении социальных фактов как явлений, природа которых, сколь бы гибкой и податливой она ни была, не подлежит изменению по прихоти. Куда опаснее учение, которое видит в этих фактах лишь результат умственных комбинаций, которые простой диалектический прием может мгновенно поставить вверх тормашками!
Точно так же, ибо нам привычно воображать общественную жизнь как логическое развитие идеальных представлений, тот метод, который ставит коллективное развитие в зависимость от объективных условий, очерченных пространственно, можно осуждать за склонность к упрощению и шаблонности, а нас самих можно упрекнуть в материализме. Впрочем, мы с полным основанием вправе утверждать обратное. Разве на самом деле сущность спиритуализма не опирается на идею, будто психические явления нельзя выводить напрямую из явлений органических? Наш метод отчасти подразумевает приложение этого принципа к социальным фактам. Спиритуалисты отделяют психологическое от биологического, а мы отделяем психологическое от социального; подобно спиритуалистам, мы отказываемся объяснять нечто более сложное посредством чего-то простого. Правда, строго говоря, ни один из перечисленных способов не подходит нам целиком: единственное приемлемое для нас решение – это рационалистический подход. Ведь наша главная задача заключается в том, чтобы расширить рамки научного рационализма, распространить его на человеческое поведение, показать, что в свете прошлого его возможно свести к причинно-следственным отношениям, которые при помощи не менее рациональной операции затем могут быть преобразованы в правила будущих действий. То, что ныне принято именовать позитивизмом, есть просто следствие этого рационализма[2]. Никто не поддастся соблазну выйти за пределы фактов – ни для того, чтобы их объяснить, ни для того, чтобы указать направление исследований, разве что эти факты будут сочтены иррациональными. Если факты постижимы, они вполне приемлемы для науки и для практической деятельности; наука признает, что исчезает стремление искать вовне причины их существования, а практическая деятельность видит в полезности этих фактов одну из таких причин. Посему представляется, особенно в нашу эпоху возрождающегося мистицизма, что подобное начинание может и должно восприниматься без опасений и даже с сочувствием со стороны всех, кто, расходясь с нами в каких-то частностях, разделяет нашу веру в будущее разума.