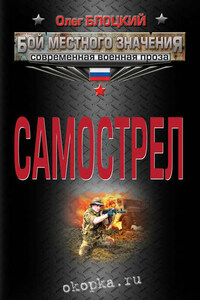Человек с фотоаппаратом, который висел на крепкой, широкой матерчатой ленте, похожей на автоматный ремень, но только черного цвета, протянул листочек, где черканул пару слов, и Виктор отдал взамен деньги.
Потом они медленно пошли от набережной к центру. Егоров молча держал ее за руку. Спутница тоже молчала.
Последние дни она нервничала и как бы невзначай роняла, что вот-вот приедут друзья и тогда она исчезнет.
– Всего на три дня, – скороговоркой прибавляла девушка. – Но я вернусь. Обязательно! – И старалась заглянуть Егорову в глаза.
Тот тоже нервничал и отворачивался, догадываясь, кто к ней приезжает. Виктор понимал: если женщина уходит к другому, то это окончательно, и никакие, даже самые страстные слова уже не помогут. Напряжение росло, и вот наступила развязка.
«Зря все-таки мужики выпячивают грудь и надувают щеки, – растерянно думал он, глядя на поникшую спутницу, – ведь именно они нас выбирают, а не мы их. Просто делается это умно и тонко, для нас абсолютно незаметно».
Немного погодя девушка, так и не проронив ни слова, осторожно высвободила руку, опустила голову еще ниже и быстро пошла вперед, почти побежала, прижав кулачки к груди.
Виктор смотрел вслед, пока легкое изумрудное платье не было окончательно сожрано пестрым равнодушным потоком, текущим быстро и настойчиво к морю.
«Тяжело тянуть губы в равнодушной улыбке, – подумал Виктор, – когда хочется закричать и броситься вслед».
Непонятно почему, но Егоров продолжал идти, и ему чудилось, что еще немного – и он вновь увидит девушку, что она осознает все, опомнится и вернется.
Но на Виктора по-прежнему все надвигались и надвигались чужие улыбающиеся лица. Казалось, что встречные знают о его несчастье и сейчас потешаются над ним. Его так и тянуло изо всей силы смазать по каждой сияющей загорелой роже кулаком.
Он шагал, мотал головой и думал, что напрасно сфотографировался. Глянцевый кусочек картона с запечатленными близкими людьми или приятелями всегда был для него признаком окончательного расставания.
В своем суеверии дошел до того, что наотрез отказывался становиться перед объективом рядом с друзьями. Карточки от них он тоже не брал. В оправдание лейтенант улыбался и прикладывал руку к сердцу: «Вы у меня здесь, мужики. Это самая верная память!»
Но сейчас именно Виктор настоял на фотографировании, сам толком не понимая, почему так поступил. Может, чувствовал неизбежность расставания и хотел лишь усилить его, чтобы окончательно и навсегда вырвать девушку из своей жизни.
Перед тем как утопить кнопку в корпус аппарата, фотограф, привычно и делано хихикнув, предупредил парочку, что сейчас вылетит птичка. И если девушка попыталась изобразить хоть какое-то подобие улыбки, то ее спутник еще сильнее набычился, взглянув в объектив с такой ненавистью, что у старика задрожали руки, и, вместо одного, пришлось сделать целых три кадра.
Навстречу все так же шли веселые курортники в пестрых майках и ярких аляповатых шортах. Злость против них стала столь острой, что Егоров свернул туда, где дома были приземистее, дряхлее, зелень – гуще, а земля под ней – сыроватой.
Он долго петлял по незнакомым узким улочкам, которые даже в самый зной удерживали прохладу. Асфальт походил на старую, кое-где лопнувшую и задубевшую кожу. Совсем как на пятках пленных духов, рядком лежащих на земле, воткнувшись в нее бородами и сцепив руки на коричневых шеях.
Углы двухэтажных домов в некоторых местах были отбиты, кровенясь багровым кирпичом. Зато стены тех же домов мягко обнимали коричневые стебли винограда, а внизу, перед строениями, просторно раскинули хищные плети кусты дикой розы.
Не выбирая дороги, Виктор все шагал и шагал, упрямо взбираясь вверх по перекошенным улочкам с канавками-змейками вдоль них, и почти сбегал вниз, когда они, углубляясь, сбегали под уклон. Много раз он с силой пинал камни, и те летели в стороны. Боли не чувствовал.
Иногда в разрывах пыльных вялых деревьев виднелось море. У горизонта оно было серым, а ближе к берегу – темно-зеленым. Солнце все ниже склонялось к его поверхности. Дорожка света на неспокойной воде сужалась. Качающиеся лодки были похожи на разноцветные пробки в большой мутной луже.
Виктор хотел забыть девушку, поэтому все время пытался вспомнить, когда, где и как она его обидела. Но непокорная память выносила из своих глубин только самое чистое, лучшее и нежное, что было между ними за прошедшие две недели. От этого становилось еще больнее, ладони увлажнялись, и Виктор все прибавлял и прибавлял шаг.
Потом Егоров вдруг вновь оказался на переполненной набережной.
«Отчего я здесь? – подумал он. – Может, потому, что в толпе страдание переносится легче. Смотришь на людей, ловишь обрывки фраз и хоть на мгновения, но отвлекаешься от собственной боли. Или я все-таки надеюсь увидеть ее?»
Виктору постоянно казалось, что девушка уже тут и тоже пытается отыскать его. Он снова и снова пересекал набережную. Каждый раз, когда оказывался рядом со стариком-фотографом в смешной детской панамке и пижонистых шортах, тот, прищурившись, провожал долгим взглядом темноволосого парня, глаза которого беспокойно ощупывали толпу. «Потерял девку, остолоп, то-то же», – злорадствовал старик.
Сидя на лавочке под серыми, уставшими от зноя деревьями, Егоров курил и сосредоточенно смотрел на высокие колонны, соединенные сверху бетонной дугой, которую украшала выпуклая надпись: «Граждане СССР имеют право на отдых».
Он испепелял взглядом каменные столбы и вспоминал тех «граждан», которые очень далеко отсюда успокоились навсегда.
В моменты отчаяния, беспросветной тоски, когда казалось, что жить дальше нет никакого смысла, Виктор возвращался мыслями в Афганистан. Но не для того, чтобы понять всю ничтожность нахлынувших переживаний и лишний раз порадоваться спокойной нынешней жизни и тому, что он выжил. Напротив, весь этот послевоенный год именно в прошлом, в Афгане, Егоров все сильнее ощущал истинную жизнь для себя.
Как всегда, воспоминания не приносили облегчения, однако грусть становилась осмысленней, а печаль – размеренной, словно дымка, медленно текущая от затухающего, на глазах седеющего костерка, привычно разбитого на привале.
И одна картинка сменяла другую.
…Прильнувшие к обочинам дороги, окоченевшие от ночного холода железные трупы сгоревших боевых машин. Кое-где ржавые остовы, словно саваном покрытые мохнатым инеем, ярко искрящимся в лучах восходящего солнца.
Солдат с перемотанной бинтами головой до самого кончика носа, которого выводили испуганные товарищи под руки из «зеленки», куда советские войска втягивались с тяжелыми боями. Раненый идет, спотыкаясь, и отупело, с какой-то непонятной жадностью, пожирает зеленые яблоки, доставая их из кармана и чуть ли не целиком засовывая в рот: хр-р-хр-р, хрусть, хр-р-хр.