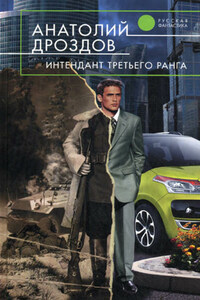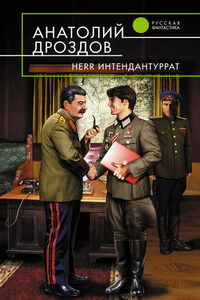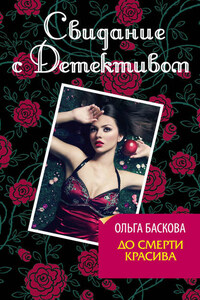Один – тощий, коренастый и чернявый, другой – тощий, коренастый и светлый – постригся, наверное, после обеда, потому что сквозь белесый пух на голове сияет молочная кожа. С утра-то солнце жарило так, что его блондинистая маковка в пять минут заалела бы – ковать можно. А часов с двух тучи натянуло, вот поэтому и не обгорел. Наверное, сразу из парикмахерской они сюда и рванули. Все они стригутся перед самым вылетом. Массу, значит, сокращают.
– А клизму вы не делали? – спросил я, переводя взгляд с одного на другого. Чернявый (который получался у нас Гильямов Сергей Олегович) продолжал изучать некую точку, расположенную примерно сантиметрах в тридцати от его носа. А светлый (Заруба Вадим Петрович, стало быть) среагировал на мой вопрос недоуменным миганием.
– Не грубите, – разлепил наконец губы самое Вадим Петрович Заруба.
– Да это не я вам грублю, – как можно проникновеннее сказал я. – А вы мне. Так вы, ребята, грубите мне всем своим поведением, что я скоро на пенсию досрочно выйду, понимаете?
– Ничего мы вам не грубим, – уверенно возразил белобрысый.
Я повернулся к Нелыкину, без какого-либо интереса изучавшему на своем мониторе, судя по всему, жития задержанных.
– Вот как, по-вашему, товарищ капитан – хорошо ли это: проникать на особо охраняемые территории?
– Никак нет, товарищ майор, нехорошо, – с готовностью отозвался Нелыкин. – Мне папа очень не рекомендовал такими вещами заниматься.
– Ваш папа, – предположил я, – наверняка был высокоморальным человеком!
– Увы, – вздохнул Нелыкин. – Папа мой, товарищ майор, был самой большой сволочью из тех, что мне в жизни попадались. Контрабандист он был, наводчик и под конец еще наркотиками торговал габаритно. Всем своим несознательным образом жизни демонстрировал он мне пагубность преступного пути. Но на особо охраняемые территории он никогда не стремился попасть. Чего нет, того нет. Это, пожалуй, единственный грех, который невозможно инкриминировать его душе, в настоящее время и до Страшного суда насаживаемой чертями на вилы.
Нелыкин еще раз вздохнул и размашисто перекрестился, за неимением иконы, на портрет Дзержинского. Я же наставительно поднял палец:
– Вот! Даже такой закоренелый асоциал, как родитель нашего уважаемого Алексея Дмитриевича, и то избегал всякого рода охраняемых территорий. И уж конечно – стартовых площадок. Верную догадку я сейчас сделал, Алексей Дмитриевич?
– В самое яблочко, – кивнул Нелыкин. – В жизни его не видели рядом со стартовыми площадками.
Я встал из-за стола, обошел его, наклонился к сидящей напротив парочке и раздельно произнес:
– Это, наверное, потому, что временами стартовую площадку пробивает разрядом до двухсот тысяч ампер. Как считаете?
И поскольку вопрос был риторический, я развернулся, чтобы сесть обратно, но Заруба (Вадим Петрович) упрямо пробасил мне в спину:
– Один к десяти тысячам.
Я остановился у окна.
– Что-что?
– Вероятность нарушения электрической дисперсии на стартовой площадке составляет, по статистике, один случай на десять тысяч успешных взлетов.
– Да он еще и эксперт, – крякнул Нелыкин. – Слушай, эксперт, а с чего ты взял, что вы с дружком – не юбилейные? Везунчики десятитысячные…
– А вы мне не тыкайте! – процедил паршивец. Нелыкин с шумом втянул ноздрями воздух, полную свою широченную грудь, но воспитательный процесс пора уже было заканчивать.
– Предъявите ваши документы, – сказал я, продолжая смотреть в окно.
От заката осталось часто перекрытое тучами оранжевое пятно, в центре которого угадывался некий одинокий, как бы даже беззащитный шарик. Степь же была совсем непроглядная – ни холмика не было уже видно, ни рытвины, ни хотя бы даже намека на какую-нибудь солончаковую кляксу. Словно не степь была там, внизу, нет, не пахнущая полынью и дождем степь, да и не Земля вообще – а Черная дыра, в которую валилось маленькое, одинокое и беззащитное Солнце. Если бы это было так, подумал я, то это был бы самый последний закат. И если бы это был самый последний закат, то провел я его, как ни крути, крайне бездарно.
– Нелыкин, – позвал я, не оборачиваясь. – Ты слышишь тихий шелест доставаемых из карманов паспортов?
– Никак нет, – печально отозвался Алексей. – Уже почти минуту, как тишину ловлю, товарищ майор.
Я вернулся за стол и энергично хлопнул по нему ладонью – так, что панель засветилась во всю мощность, побелела:
– Ну слава те, господи! Отлегло! Я-то уж, понимаешь, решил, что это старческая глухота на меня навалилась. Стою, понимаешь, и думаю: ну надо же, какая досада! Граждане, понимаешь, Заруба и Гильямов достают свои распрекрасные паспорта – а я не слышу, ну ни звука! Не иначе как оглох, думаю. Вот это был бы номер, как считаешь?
– Да ну что вы, Владимир Федорович! – отмахнулся Нелыкин. – Вы и не старый еще, а будут со слухом проблемы – так вылечат. Сейчас же все лечат, не то что уши там, например… Еще и путевку получите в санаторий, в Швеции вот сейчас хорошо, не жарко. Не переживайте.
– А чего ж это тогда был за фокус с паспортами? – спросил я Нелыкина, внимательно разглядывая лицо белобрысого Зарубы. Лицо белобрысого Зарубы шло красными пятнами.
– Да какой там фокус, – легкомысленно буркнул Нелыкин, снова уставившись в свой монитор. – Нет у них никаких паспортов, вот и весь фокус.
– Как?! – Я, как мог, изобразил на лице ужас. – У двух великих покорителей Космоса, у двух безотказных первопроходцев, у двух, так сказать, Магелланов нашей эпохи – Гильямова Сергея Олеговича и Зарубы Вадима Петровича – нет паспортов?!
– Нет, – сознался Нелыкин.
– Даже у Вадима Петровича?!
– Даже у Вадима Петровича.
– Но как же так, Нелыкин?! Как такое может быть?!
– Такое очень даже запросто может быть, товарищ майор, – заверил меня Нелыкин. – Если учесть, что им обоим нет еще шестнадцати лет.
У Зарубы уже дрожала верхняя губа – и вибрация от нее комично передавалась на конопатые щеки. Ну давай, подумал я. Давай уже, зря я, что ли, цирк этот тут развел, издеваюсь над тобой, объясняю тебе, что сопляк ты, желторотик, от горшка два вершка, молоко на губах не обсохло, романтик пустоголовый, мамкин сын…
– Как это странно, – медленно сказал я, – что человеку, обладающему глубочайшими знаниями относительно статистики нарушения дисперсий, еще нет шестнадцати лет…
Вот так. Сейчас ты носик вытрешь рукавом, потом не сдержишься, раз шмыгнешь, два шмыгнешь – да и разревешься. И назовешь меня фашистом и гадом, и как только вы меня не называли с вот этого самого стула. А после истерики поедешь ты тихо-мирно домой в свой Акмолинск и, быть может, ума наберешься там.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru