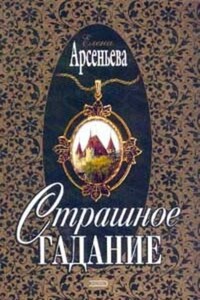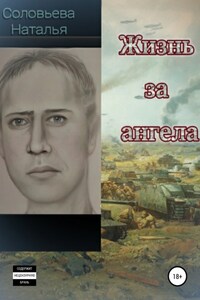Елена Арсеньева
Причуды Саломеи, или Роман одной картины (Валентин Серов – Ида Рубинштейн)
Как красива царевна Саломея сегодня вечером!.. Посмотри на луну. Странный вид у луны. Она – как женщина, встающая из могилы. Она похожа на мертвую женщину. Можно подумать – она ищет мертвых… Очень странный вид у нее. Она похожа на маленькую царевну в желтом покрывале, ноги которой из серебра. Она похожа на царевну, у которой ноги как две белые голубки. Можно подумать – она танцует. Она медленно движется… Как царевна бледна! Я никогда не видел, чтобы она была так бледна. Она похожа на отражение белой розы в серебряном зеркале…
Резкий, монотонный женский голос, произносящий эти странные слова, размеренно доносился из-за наглухо запертой белой двери.
– Как она мне надоела! – вздохнула сиделка и выключила спиртовку, на которой уже начал побулькивать крышечкой маленький кофейник. – Слышать больше не могу про эту проклятую Саломею. Каждый вечер одно и то же, одно и то же. Мадам Ленор, которая дежурит в смену со мной, жалуется, что и ей нет никакого покоя от Саломеи. По-хорошему надо бы позвать священника, чтобы изгнал дьявола из этой бледной немочи, которую держат там, за дверью!
– Ничего, – усмехнулся санитар, протягивая чашку. – Половину, мадам Мано. Довольно, вот так… Слишком крепкий кофе, я не хочу, чтобы у меня опять началось учащенное сердцебиение. А может быть, – игриво хихикнул он, – у меня учащенное сердцебиение не из-за кофе, а из-за вас?
– А у меня учащенное сердцебиение из-за нее! – не отвечая на невинное кокетство, простонала мадам Мано, со звоном брякая чашку на блюдце. – Вот, слышите? Она опять начала! Проклятая еретичка!
– Твой голос пьянит меня, Иоканаан! Я влюблена в твое тело! Твое тело белое, как лилия луга, который еще никогда не косили… Твое тело белое, как снега, что лежат на горах Иудеи и нисходят в долины… Розы в саду аравийской царицы не так белы, как твое тело. Ни розы в саду царицы аравийской, благоуханном саду царицы аравийской, ни стопы утренней зари, скользящей по листьям, ни лик луны, когда она покоится на лоне моря… Нет ничего на свете белее твоего тела. Дай мне коснуться твоего тела!
– Господи, что она несет! – фыркнула сиделка, краснея. – Надо ее связать и заткнуть ей рот. Чего я только не наслушалась на этом посту, одна Святая Дева знает мои мучения! Но такого я никогда не слышала.
– Да не волнуйтесь вы так, – пробормотал санитар, который тоже смутился и отвел глаза от распалившейся сиделки. – Не надо никого связывать. Разве вы не знаете, как тиха и безобидна эта больная? Вся ее вина только в том, что она слишком богата и непомерно помешана на своей красоте. Держу пари, она сейчас лежит, вытянувшись во весь свой длинный рост, таращится на себя в зеркало, которое по ее мольбам укрепили над ее кроватью, и бормочет эти нелепые слова. Ну какая в том беда? Она не бьет стекла, не ломится в дверь. Бог с ней! – И он снова поглядел на сиделку: – Вы лучше вот что скажите мне, мадам Мано… нет ли среди ваших предков испанцев или итальянцев? Иначе откуда бы у вас взялись эти прелестные черные глазки?..
Эх, жаль, жаль, не нашлось в этот вечер в частной лечебнице доктора Левинсона никого, кто рискнул бы держать пари с санитаром, потому что у него, у этого рискового человека, появился бы вполне реальный шанс увеличить содержимое своего кошелька!
– Саломея, Саломея, танцуй для меня. Я молю тебя, танцуй для меня… – высоким, пронзительным голосом декламировала очень высокая, очень худая и очень бледная женщина с распущенными черными волосами, одетая в лиловую с серебром пижаму, медлительными, рассчитанными движениями ковыряя шпилькой в замочке, который сдерживал оконные створки.
Эту шпильку еще позавчера уронила из своей прически сиделка Мано. Ида боялась, что она спохватится, боялась, что это проверка, и не притрагивалась к шпильке до сегодняшнего утра, хотя она так заманчиво темнела на светлом ковре, покрывавшем пол. Конечно, ее непременно заметила бы уборщица, заметила бы и убрала, однако Ида и вчера, и нынче утром устроила скандал и никого в свою комнату не пустила. Лекарства ей приносил сам подслеповатый дядюшка, доктор Левинсон – вот поганая, мерзкая тварь, он-то и заточил Иду в свою собственную психушку, повиновавшись настоятельным требованиям ее родственников, которым до того жалко стало рубинштейновских миллионов (что и говорить, тратила она деньги, как хотела, не считая!), что они сочли ее помешанной и упрятали в эту беленькую, сверкающую, чистенькую, пахнущую лекарствами тюрьму.
Она провела здесь целый месяц, чуть и в самом деле не спятила, ожидая, что эти зажиревшие свиньи, ее родичи, одумаются и сжалятся, а потом решила плюнуть на все – и снова взять судьбу в свои руки. Причем надо было спешить – cрок действия ее паспорта кончался. Нужно уехать из Франции самое позднее послезавтра, не то к ней привяжется полиция, и у Левинсона появятся законные основания держать ее в заточении, кроме выдуманной болезни. Скажет: «Я делаю это для вашей же пользы, моя маленькая Лидуся! Стоит вам выйти на улицу, и к вам может привязаться любой ажан, который разглядит в вас иностранку. А за несоблюдение паспортного режима во Франции недолго и в Консьержери угодить!»
В Консьержери Иде не хотелось. Но еще больше ей не хотелось сидеть в этой наглухо запертой комнате и слушать, как толстый и противный доктор Левинсон (сама чрезвычайно, невероятно худая, она ненавидела толстяков до брезгливого визга!) называет ее Лидусей.
Ну да, в самом-то деле ее звали не Идой, а Лидой, но это имя она ненавидела, ненавидела!
– Мне грустно сегодня вечером… Да, мне очень грустно сегодня вечером. Когда я вошел сюда, я поскользнулся в крови, это дурной знак, и я слышал, я уверен, что слышал, взмахи крыльев в воздухе, взмахи как бы гигантских крыльев. Я не знаю, что это значит… – произнесла она громче, чем прежде, потому что в это мгновение замок поддался ее усилиям и открылся.
Так, отлично, теперь очередь за ставнями. Какое счастье, что палата на втором этаже, а значит, ставни закрываются изнутри!
– Мне грустно сегодня вечером, поэтому танцуй для меня… Танцуй для меня, Саломея, я умоляю тебя! – продолжала Ида свой спасительный, скрывающий шум ее усилий монолог. – Если ты будешь танцевать для меня, ты можешь просить все, что захочешь, и я дам тебе. Да, танцуй для меня, Саломея, я дам тебе все, что ты пожелаешь, будь это половина моего царства!
Второй замок открылся неожиданно быстро, Ида чуть не подавилась от неожиданности. Не отворяя ставен (а вдруг кто-то заметит открытое окно клиники раньше, чем Ида ее покинет?), она прокралась к двери и провозгласила: