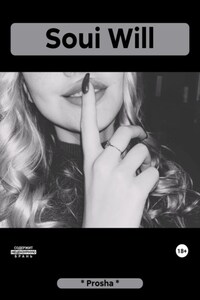Рождение первенца праздновали хоть и в январе, да в своей избе. Природа как никогда расстаралась на морозы. Правда, снегу нападало до наступления свирепых холодов достаточно. Земля была надёжно укрыта толстым одеялом снега. Изба у Никифора вся состояла из порядочных дыр между укосинами и балками и огромных трещин в глинобитных стенах, между затянутым бычьим пузырём, так называемым, окном и стеной. Эти трещины на зиму были заткнуты, где старыми мешками, где пучками соломы, щедро замазанными красной глиной, и, несмотря на всё это непотребство, внутри избы было тепло. Молодая хозяйка с молодым хозяином старались хозяйство содержать не хуже, чем у других людей и поддерживать чистоту. Отец Никифора не очень утруждал себя строительством. И хотя управляющий барским имением не раз премировал Ефима, отца Никифора, нестроевым лесом за отлично исполненную работу, чтобы тот в хозяйстве что-то мог сделать. Родитель что – то пропивал со своими дружками в кабаке тетки Таисии, что – то продавал на потребу голубей, до матери доходили сущие крохи, которые та прятала на черный день. Поэтому ни сеней у избы, ни одежды исправной у семьи и даже плетня нормального вокруг двора не было. Да и дети, появлявшиеся на свет у родителей Никифора отчего – то помирали, кто сразу, а кто через некоторое время. Только Никифор, как мать говорила, трудно болел почти год, а затем вымахал в такого вот гренадера. Единственное строение, что изготовил его отец на совесть и затем следил за ним всё время, пока был дома, это была голубятня в глубине двора. Он был заядлым голубятником. Охотником Зоревых тамбовских, как у них, у голубятников, такие люди прозывались. Были и турманятники, конечно, но то уже совсем другая песня. У него было двадцать четыре пары разных голубей, и дымчатые бело-поясные, и красно-поясные, и белозобые Зоревые, и синие, и пепельные, и чёрные, и белые. – Это королевская линия Зоревых – говаривал отец. Он всё мечтал достать парочку « Цыган» – серо-коричневых черно-поясных космачей, просил и управляющего и самого барина. Обещались. Управляющий установил специально для него трехдневную барщину, которую отец отрабатывал по полдня в неделю. Остальное время он был занят с голубями. Потому, что Зоревые гонялись в вечернюю зарю и барин на вечернем чае летом в саду, зимой в остекленной веранде должен был видеть и радоваться гону своих голубей. А по прибытии всевозможных гостей, сию забаву превращать в праздничное представление и напоминание некоторым дворянам, чем должен быть занят настоящий мужчина, кроме разведения орловских рысаков и « Cherchez la femme!». Обещал Ефиму добыть и «Цыган». Хоть, говорил, и дороговато – один «Цыган» целую золотую монету (царских десять рублей) стоит. По отъезду родителей, досталась Никифору старая изба, хлев для скотины и голубятня, соответственно и хозяйство всё. Когда Никифор был маленьким, до семилетнего возраста, голубятня всегда ассоциировалась у него с таким же волшебным дворцом, который отец, в конце концов, построит для них с матерью. В этот день привычный навозный воздух от теленка из клети в дальнем углу избы и поросячий, вонючий дух из пустой соседней клетки победно перебивался душистым запахом свежеиспеченного хлеба, три каравая которого теща, наверное, надолго уж, прибежавшая к дочке и зятю, деревянной лопатой вынула из пышущей сухим кирпичным жаром русской печи. Хлеба теща разложила на рушник, лежавший на столе, чтоб подсохли. Лопату убрала под основание печи на верхнюю полку опечья. С другого края стола к стоящей с овсяным киселем, начищенной до зеркального блеска, медной ендове на чистую тряпицу холщевого полотна разложила в большую глиняную миску солёные огурчики из своей домашней бочки, в махонькую миску, яйца, сваренные вкрутую, пять луковиц крепкого, укрытого золотистыми листочками, лука положила просто на стол. В солонку досыпала соли. Достала из печи большой глиняный горшок с кипевшей чечевичной похлебкой, поставила на шесток и накрыла деревянной крышкой, вместо него вдвинула во чрево печи железный противень с нарезанными маленькими кусочками свиного сала, среднего размера горшок с перловой кашей, приправленной постным маслом, передвинула по поду, жестяной заслонкой загородила устье печи. Ополоснула руки под рукомойником. Сама отошла к судной лавке. И стала уже в сотый раз, наверное, чистой тряпицей протирать стоявшую там посуду, поглядывая при этом на, разомлевших в тепле и сладко спящих на полатях, дочку Арину и внука Евстафия. Который с самого утра на восьмые сутки от рождения был окрещён местным батюшкой Володимиром, и который прокричал всё своё крещение и потом просипел после него ещё некоторое время. Имя, данное внуку Марии, отец Володимир выбирал по святцам, по дню рождения в январе месяце, четвертого числа, одна тысяча восемьсот пятьдесят третьего года. И потом уже, в сторону отведя Марию, объяснял на ушко, придерживая её за всё ещё видимую талию, что таких хлипких младенцев вообще-то можно крестить и сразу после рождения, и на второй день рождения. Потому что, если вдруг помрет он, что, конечно, не дай бог такому случиться, то крещеным предстанет перед святым Петром у врат Рая. Далее объяснил, что имя-то выбирал не простое, а греческое, на русский манер означавшее – устойчивый, возможно, это поможет в дальнейшем житие-бытие и добавил, такое же имя носил древний римский император – это тоже в жизни кое-что значит.
Перекосившаяся от древности, обитая изнутри толстым слоем ветоши, маленькая дверь беззвучно (потому что хозяин в доме был и петли дверей дёгтем смазал, резкий запах которого едва различался в общей какофонии запахов) стукнула, впустив не только добрую порцию холодного зимнего белого облака, пахнувшего морозной свежестью, но и согнувшегося в три погибели молодого хозяина. Облако растаяло и его стало полностью видно в тусклом свете лучин, горевших и в камельке, сделанном на углу печи, и в светце, воткнутом в стену над лавкой, напротив печи. Под светцом стояло блюдце с водой, для падающих угольков. Высокого роста, косая сажень в плечах, молодой мужик ловко, одной левой рукой, скинул древний треух с белобрысой головы, встряхнул ею, волосы, подстриженные под скобку, взлетели и легли обратно ровно. Треух с головы и залатанный во многих местах ямщицкий тулуп с широких костистых плеч аккуратно положил на стоящую справа от входа лавку рядом с деревянной бадейкой, в которой стояла чистая родниковая вода для питья, закрытая сверху деревянной же крышкой. Сам остался стоять перед входом, на, недавно поменянной по всему полу, ржаной соломе, в холщевой белой рубахе на выпуск, подпоясанный красным кушаком с двумя кистями, в, вывернутой наружу мехом, овчинной безрукавке, в жестких суконных серых портах, заправленных до колен в онучи. Ноги в не раз штопанных шерстяных носках обуты были в лапти, проложенные внутри войлоком. Другой рукой он бережно прижимал к тощему правому боку четверть самогона, загодя приобретённого в кабаке у старухи Таисии и припрятанного на сеновале ради этого долгожданного события. Хозяин, аккуратно, теперь уже двумя руками поставил бутыль на лавку, достал из-под лавки веник, собранный из полыни, тихонько, чтобы не шуметь, оббил лапти от налипшего снега. Все кусочки упавшего снега и нерастаявшие, и чуть-чуть подтаявшие он также четко и неторопливо убрал с соломы на земляном полу, на коврик из старой дерюги под дверью, положил веник на место. Разогнувшись, с той же степенностью перекрестился на икону Николая – Угодника, висевшую в восточном углу и прошел на чистую половину избы к столу. Завихрение воздуха при его передвижении сильно качнуло язычок пламени в лампадке, и как только он присел за стол, бегавшая по стенам большая тень за его спиной в разы уменьшилась. Теща, перестав метаться от печи к столу и обратно, поменяла сгоревшие лучины в камельке и в светце и тихонечко его спросила: – Ну, что, будить твоих-то? – Погоди, все соберутся, тогда и разбудишь, – ответил он. – Ладушки, – согласилась теща и также тихо начала его расспрашивать про его родителей, переехавших к старой барыне Чичериной Авдотье Никитичне в волостное село Загряжское. Откуда, только вчера, он приехал с барским обозом домой, в Бунино – деревеньку, стоявшую на другом берегу реки Кариан от Аннинского, в двух верстах от барской усадьбы Паисия Александровича, сына Авдотьи Никитичны.