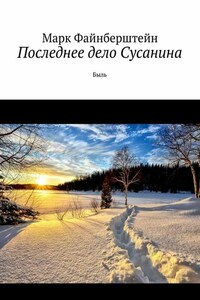Помню его взгляд. Потухший. Помню, как неуверенно вошел в мою комнату. Помню дрожащие губы и тяжелое дыхание. Помню чуть слышный голос.
«Ее больше нет».
Бум. Будто от души приложились огромной дубиной по затылку, темени и лбу разом.
Оглушение. Ослепление. Онемение. Одурение. Одновременно.
Падение в пропасть. Без падения. И без пропасти.
Эхо. Меня зовут. А как меня зовут?
Помню его слезы. Сел на кровать рядом со мной, крепко обнял и густо зарыдал. Никогда – ни до, ни после я его таким не видел.
Я всегда считал отца самым сильным человеком на земле – не по физике, но по духу. Когда умерли его родители, и когда медленно и мучительно от тяжелой болезни умирал его брат, я не увидел в его глазах ни одной слезы. Может, он выплакал их в одиночестве, может, свидетелем этих слез была мама. Может. Я не видел. До того дня, когда он потерянным человеком вошел в мою комнату. Я видел. И чувствовал. Поймал себя на мысли, что плачущий так отец – один из самых впечатляющих и потрясающих до самой глубины естества моментов в моей жизни. К тому дню (забегая на много лет вперед скажу, что этот момент таковым остался и до сегодня). Странно. Я только что узнал, что мамы не стало, а мои мысли занимал только отец, пусть и содрогающийся в неистовом плаче.
Мой папа говорит: когда где-то случился пожар или, к примеру, корабль терпит крушение, хотя бы один человек должен сохранять холодную голову и оставаться спокойным, иначе все могут погибнуть.
Когда это произошло, я не паниковал – совсем – в тот же миг мне все стало безразличным. Я не боялся и был готов потонуть вместе с кораблем. Или сгореть.
Память безжалостна.
Болезнь Альцгеймера1это страшно. Но не сейчас. Не для меня. Но ее нет.
Гипертимезия2 это страшно. Сейчас. Для меня. Ее нет.
***
Драма. Не счастье, не горечь, не разочарование, а именно глубокий драматический момент пробуждает главные, самые глубинные сущностные человеческие чувства. Что-то сакральное, что-то не отсюда, не из нашего привычного мира.
Мама. Ничего не может быть сильнее материнской любви. Ничего. Любовь матери к своему ребенку можно сравнить разве что с любовью ребенка к матери или к отцу. И то с натяжкой – первая сильнее, как мне думается. Любовь романтическая, между мужчиной и женщиной это нечто иное. Я уж не говорю про другие виды любви.
Мама. Ничего не может быть больнее и сокрушительнее, чем смерть близкого и любимого человека.
Это как лакмусовая бумажка, которая определяет, обнаруживает неважность (или маловажность) всего остального – всех остальных проблем и невзгод.
Отец рыдал у меня на плече, а я смотрел безжизненным эфирным взглядом на белую стену. Нет. Это был мертвый взгляд. Одно и то же? Не совсем.
Я как Давид3.
«Я возмутился; я склонил голову; я испытываю печаль весь день…. Я изнемогаю и сокрушаюсь чрезмерно; я кричу от терзаний сердца моего…. Мое сердце плачет, моя сила не поможет мне: и свет из моих глаз также ушел от меня».
Так было.
Я уже умер. Я чувствовал это.
Отец успокоился, отпустил меня и, поднявшись, белесо-багровым ребром правой ладони резко, и несколько даже судорожно протер глаза. Посмотрел на меня. Я увидел в его глазах еще большую растерянность, чем она была у него, когда он только вошел в комнату. Он свел брови – это значило либо недовольство, либо беспокойство. Все в порядке? – спросил он охрипшим голосом. Вновь присел на кровать. И начал что-то говорить. Не помню что. В то время я думал о том, что только что умер и пытался осознать каково это – умереть, и мучительно старался понять, как быть.
Деформация сознания.
Мама. Ничто не может обладать в человеческих отношениях той же степенью чистоты и даже священности, какое есть в отношении ребенка к своей матери. Некоторые из нас лишены этого чувства по причине духовной, некоторые – потому как у них нет матерей.
Помню, как стригся в парикмахерской, и поймал себя на мысли, что у женщины-парикмахера очень приятные нежные руки. Она проводила ими по моим волосам, стряхивала волосы с лица, а я отгонял от себя мысли о том, что ее руки нежнее рук моей матери. Я не мог позволить себе признаться в этом из-за той великой детской любви, которую испытывал к своей маме – наивной, но такой чистой. Эта мысль о превосходстве рук чужой женщины над руками моей мамы клещом вцепилась в мое сознание. Но благо к концу стрижки, неимоверными усилиями – умственными, духовными и даже физическими, я смог все же переубедить себя, одержав эту маленькую, но бесконечно важную победу для себя и моей мамы внутри меня.
Я был доволен тем, как готовила моя мама. Часто я даже брезговал есть пищу, приготовленную другими – где-нибудь в школе или в гостях. Но как-то раз я попробовал котлеты на дне рождения друга, которые приготовила его мама, и подумал, к горечи для себя, что эти котлеты вкуснее маминых котлет. Помню, как эта мысль отозвалась болью в животе, и с каким большим трудом я смог переубедить себя в том, что это не так, что с котлетами моей мамы не сравнятся никакие другие котлеты в мире. Просто, потому что они мамины. Аргументы без фактов.
Мама – была лучшей для меня, лучшей во всем, что делала, а моя детская любовь была столь чистой, что не допускала никаких изъянов или недостатков в ее святом образе. С возрастом ты по-другому смотришь на подобные моменты, но образ мамы, как самой лучшей, сотканный, сформированный в те детские годы, остается в твоем сердце непоколебимо.
Если бы вы могли понять, каким было это горе…. Это невозможно передать словами. Сотни самых сильных слов не передадут всей полноты боли, потому как, если вы могли понять и принять эту боль, вы бы умерли. Как я. Но вы погрустите, поплачете и даже несколько дней проведете в унынии, но потом вернетесь к жизни и также как ранее будете ей радоваться. Слово – не всегда просто слово, но слово – всегда не практика ужаса, не практика трагедии.
Мысли пригвождают.
Рак. Зловещий. Сосед по лестничной площадке, который знает все и обо всех, говорил, что существуют лекарства от всех болезней. И от рака в том числе. С видом самоуверенным, наглым и вызывающим, будто выступает с трибуны ООН, он говорил мне, что эти лекарства существуют только для сильных мира сего, а простым людям к ним доступа нет. Для сильных мира сего – повторял он с какой-то молодецкой удалью, твердо и важно чеканя каждое слово. Он говорил, что большие компании, которые контролируют медицинский рынок, никогда не раскроют нам правды, ведь тогда их доходы будут в сотни раз меньше, и, что плевать они хотели на страдающих и умирающих людей, деньги – вот их цель.