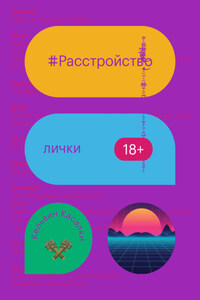Вы не поверите чернокожему, но я никогда в жизни ничего не крал. Не уклонялся от налогов, не мухлевал в карты. Не пытался без билета попасть в кинотеатр, а в аптеке всегда возвращал лишнюю сдачу кассиршам, лишенным меркантильности, это при их-то низких зарплатах. Я не грабил чужие дома, не врывался с пистолетом в винный магазин, чтобы выгрести кассу. Не отталкивал других, чтобы попасть в автобус или вагон метро, не занимал места для пожилых и инвалидов. Не вытаскивал из штанов свой огромный член и не мастурбировал с искаженным лицом. Но вот он я, в Верховном суде Соединенных Штатов, в этом огромном здании с бесконечными гулкими залами. Мою машину незаконно отогнали и припарковали, представьте себе, на бульваре Конституции. Мои руки заведены за спину и скованы наручниками, а мое право хранить молчание уже давно нарушено и похерено. Я сижу на стуле с мягкой обивкой, который, как и все остальное в этой стране, не так уж и удобен, как может показаться на первый взгляд.
Я оказался в этом городе после того, как получил официальное письмо с большим красным штампом «ВАЖНО!» большими буквами, как на лотерейных билетах. И как приехал – кручусь ужом на сковородке.
«Уважаемый сэр, – гласило письмо. – Поздравляем, возможно, именно вы станете победителем! Из сотен апелляционных дел именно ваше было отобрано к слушанию в Верховном суде Соединенных Штатов Америки. Вам оказана высокая честь! Настоятельно рекомендуем прибыть не позднее чем за два часа до заседания, которое состоится в 10 утра 19 марта … года от Рождества Христова». Далее следовали подробности, как добраться до места из аэропорта, с указанием остановки метро и маршрута по автомагистрали I-95. Прилагались купоны на разные культурные мероприятия, на посещение ресторанов, проживание в мини-гостинице и прочее. Подпись отсутствовала. Письмо заканчивалось словами:
«Искренне ваш,
Народ Соединенных Штатов Америки».
Вашингтон, Ди Си, с его широкими улицами, помпезными площадями, мраморными статуями, дорическими колоннами и куполообразными крышами напоминает Древний Рим (если бы в Риме имелись свои черные бездомные, собаки, натасканные на бомбы, туристические автобусы и цветущие вишни). Вчера днем, слово эфиоп в сандалиях на босу ногу, прибывший из дремучих джунглей Лос-Анджелеса, я отважился выйти из отеля и присоединился к хаджу деревенщины в синих джинсах, медленно и патриотично обозревающей исторические достопримечательности нашей империи. Я таращился на Мемориал Линкольна и диву давался. Интересно, если бы Честный Эйб вдруг ожил, приподняв свое шестиметровое костлявое тело из каменного кресла, что бы он сказал? Или сделал? Станцевал бы брейк-данс? Сыграл бы в орлянку на обочине? Или попросил бы сегодняшнюю газету и понял, что его Союз превратился в сборище плутократов, а люди, которых он освободил от рабства, подсели на R’n’B, рэп и хищническое кредитование? Наверное, решил бы, что его навыки больше подходят для баскетбольной площадки, а не для Белого Дома. Ловил бы крученые подачи, совершал трехочковые броски, держал стойку и матерился бы при неудачной подаче. Лучше, если бы много лет назад Великий эмансипатор притормозил со своей деятельностью.
Неудивительно, что Пентагон без конца воюет, заняться больше нечем. Они даже запрещают туристам тут фотографироваться. Поэтому когда династия ветеранов военно-морского флота в четвертом поколении в парадных формах потихоньку всучила мне «мыльницу», я был рад послужить родине – поснимал, как они встают по стойке «смирно», салютуют и делают «знаки мира» двумя пальцами. На Эспланаде я наблюдал одиночный «поход на Вашингтон». Белый парнишка лежал на лужайке, устроив инсталляцию. Казалось, что заостренный кверху памятник Вашингтону в отдалении торчит прямо из его расстегнутой ширинки как огромный белый член. Прохожие снимали парня на телефоны, а тот перешучивался со всеми, поглаживая получившийся фотоприапизм.
В зоопарке я задержался у клетки с приматами: белая посетительница сказала, что двухсоткилограммовый доминантный самец гориллы, который сидел на поваленном дереве, ревностно приглядывая за своим потомством, «похож на президента». Когда ее спутник, постукивая пальцем, указал на табличку «президентского» зверя с именем «Барака», девица громко расхохоталась, а потом испуганно умолкла, увидев рядом с собой меня – второго такого же двухсоткилограммового доминантного самца, сосущего огромный леденец «Чикита банана». Девушка безутешно заплакала и стала извиняться передо мной (наверное, за то, что я вообще родился), а потом вдруг ляпнула: «Среди моих лучших друзей есть и обезьяны». Тут уж настала моя очередь смеяться. Я сразу понял, что она из Вашингтона. Весь этот город – сплошная оговорка по Фрейду, бетонный стояк от всех американских деяний и злодеяний. Рабство? Ну конечно, я забыл: Предопределение Судьбы[1]? Мещанские сериалы вроде «Лаверны и Ширли»? Невмешательство в действия Германии, которая пыталась уничтожить в Европе всех евреев? А вот мои лучшие друзья – Музей африканского искусства, Музей Холокоста, Музей американских индейцев, Национальный музей женского искусства. Я вам даже больше скажу: дочь моей сестры вышла замуж за орангутанга.
Нужно потратить всего один день на прогулку – Джорджтаун и Чайнатаун, Белый Дом, Феникс-хаус, Блэр-хаус и местный наркопритон, – и в голове все сразу встает на свои места. Что в Древнем Риме, что в современной Америке – везде ты либо гражданин, либо раб. Либо лев, либо еврей. Либо виновен, либо невинен. Тебе либо удобно, либо неудобно. И здесь, в Верховном суде Соединенных Штатов Америки, у меня, скованного чертовыми наручниками и скользящего по кожаной обивке стула, есть единственный способ не соскользнуть жопой на этот проклятый пол: я откидываюсь на спинку кресла с видом не то чтобы беззаботным, но безусловно выражающим презрение к правосудию. Звеня ключами, словно колокольцами над дугой, в зал ровным строем входят парами коротко стриженные судебные приставы, похожие на тяжеловозов-клайдсдейлей, связанных воедино любовью к Господу и отечеству. Главный пристав, тетка с фигурой бутылки «Бадвайзера», с перекинутыми через грудь наградами, хлопает ладонью по спинке моего сиденья, требуя, чтобы я сел прямо. Из свойственного мне гражданского протеста я демонстративно въеживаюсь в кресло еще сильнее, уперев ноги в пол, и мое ненасильственное сопротивление заканчивается тем, что я соскальзываю прямо на зад. Пристав хватает меня одной рукой (гладкой, без единого волоска) и, едва не проколов мне глаз ключом от наручников, поднимает обратно вместе со стулом и двигает к полированному, из красного дерева, столу цвета лимонного фрэша настолько близко, что я начинаю видеть собственное отражение. Я прежде не носил костюмы, и мужик, который мне его продал, сказал: «Тебе понравится, как ты в нем будешь выглядеть. Гарантирую». Но рожа, которая смотрела на меня из отражения на столе, была как у любого афроамериканца в деловом костюме – хоть с афрокосами, хоть с дредами или лысого, – чье имя вы не знаете и чье лицо вы не узнаете; проще говоря, это была рожа преступника.