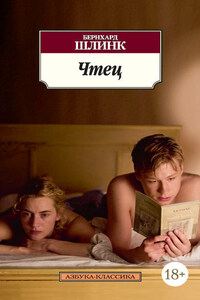Великие книги пишутся вопреки. Вопреки всему. Житейской логике, эпохе, обстоятельствам. Они пишутся по одной простой причине – так было угодно небесам. В этой предопределенности слышится поступь Командора. Смертный бросает вызов вечности. И начинается отсчет недель, часов, минут…
К главной книге своей жизни Халил Джибран (1883–1931) шел тридцать семь лет. Все, что им было сказано до и будет сказано после, – это горная гряда вокруг одинокой вершины. Велико искушение так высоко забраться, но расплата неотвратима. На своем чествовании в 1929 году он разрыдался: «Это трагедия. Я утратил свой природный дар… Я не способен писать, как когда-то».
Что остается Моисею, который поднялся на Синай и говорил с Богом? Только разбить скрижали. А в Землю обетованную спустя сорок лет войдут другие.
О Джибране известно и много, и мало. Считая любопытство большим пороком, в разговорах о себе он либо отмалчивался, либо слегка расцвечивал свою биографию. Он называл это «креативной правдой». И пояснял: если вы спросите у араба, чем он поужинал, то в ответ можете услышать «нектаром и пищей небесной», хотя на самом деле все ограничилось картошкой или бобами. Но ваш собеседник не солгал, просто таким образом он вышел из затруднительного положения, в которое вы его поставили. Джибран мог сказать, что он родился в Бомбее или что Роден при встрече назвал его величайшим поэтом, но эта невинная провокация преследовала вполне серьезную цель: думайте своей головой, ищите ответы в творчестве, а не в сенсационных «фактах». Давайте же ограничимся более или менее достоверными свидетельствами.
Вся жизнь Джибрана была преодолением. Он родился у подножия горы Ливан, на территории Сирии, и до двенадцати лет, запрокинув голову, смотрел на недостижимую снежную макушку. На что рассчитывал сирийский мальчик из деревушки Бешарри? Какие слова вознамерился сказать миру юный мистик из секты христиан-маронитов, производивший свою родовую фамилию от арабского корня jebr или aljebra? До ответа пока далеко. Сначала надо было пережить семейный позор (отец получил срок за финансовые махинации). Бегство в Америку. Нищету в арабском квартале Бостона. Смерть младшей сестры и матери. Свое изгойство в новой культуре. На его счастье, нашлись люди, разглядевшие в юноше таланты – прежде всего рисовальщика. Одно имя по крайней мере должно быть названо: Мэри Хаскелл, учительница по профессии. На протяжении семнадцати лет она безвозмездно ссужала Джибрана деньгами, снимала для него студии в Нью-Йорке, оплатила его стажировку в Париже, помогла ему освоить английский язык и, наконец, отредактировала его первые книги, включая «Пророка». Этой женщине, которая даже не была с ним близка, он завещал полтора десятка рисунков и… свое сердце. (Тело, согласно его воле, будет предано земле в родной деревне.) Без этого проводника-шерпа не состоялось бы великое восхождение. Или лучше так: кому-то было угодно, чтобы Мэри помогла ему взойти на вершину.
В этом хрупком с виду юноше была сила травы, пробивающей асфальт. Как художник он возжелал ни много ни мало нарисовать портреты всех знаменитых современников – и отчасти преуспел. В его галерее, среди прочих, Юнг, Йейтс, Сара Бернар, Джузеппе Гарибальди. Как писатель он мечтал создать произведение, абсолютное в своей завершенности, своего рода новую Библию. А как человек… он признался Мэри, что с удовольствием бросил бы живопись и литературу ради Учительства. «Пророк» потерял кавычки.
Альмустафа напрямую не связан ни с Кораном, ни с Библией, хотя соблазнительно провести параллели с образом Христа. Это пророк нового времени, чьи слова должны были предотвратить холокост и остановить лихих парней с «Индианаполиса», сбросивших «Малыша» на Хиросиму. Оставалось только эти слова услышать, но со слухом у потомков Адама и Евы, как известно, всегда были проблемы.
Для осуществления столь дерзкого замысла мало в совершенстве овладеть языком Шекспира, которого, вместе со Священным Писанием и современными классиками, он постоянно штудировал. Тут нужен особый строй мыслей, особое внутреннее состояние. Рассуждая о преступлении и наказании (так называется одна из глав его поэмы, над которой он в тот момент трудился), Джибран признается: «Этот предмет мне весьма близок. Я не могу отделить себя от преступника. Когда читаю о какой-нибудь подделке, то чувствую себя фальсификатором; читаю об убийстве – чувствую себя убийцей. Если один из нас совершает какое-то действие, мы все его совершаем, и то, что делает все человечество, делает каждый из нас». В психологии это называется эмпатия – умение полностью отождествить себя с другим. Трудно сказать, был ли знаком Джибран с эпистолярным наследием Джона Китса, чьи стихи он высоко ценил, но именно это состояние описывал рано ушедший английский гений в одном из своих писем.
Если тотальная любовь и абсолютная гармония со всем сущим – две доминанты поэмы Джибрана – позволяют возвести генеалогию «Пророка» к Песни песней, особо чтимой на Ближнем Востоке, то мудрое приятие жизни и смерти, а также весомость каждого слова роднят поэму с другой книгой царя Соломона – «Притчами». Стилизуя свою вещь с оглядкой на библейские образцы, вводя покрытую патиной времени лексику и устаревшие грамматические обороты, автор, однако же, был серьезно озабочен соблюдением меры. В письмах Джибрана то и дело звучит лейтмотив: не слишком ли архаичен и книжен мой английский язык? Насколько ему удалось избежать тяжеловесного стиля, равно как и назидательного тона («нет ли здесь налета проповеди?»), как говорится, судить читателю.
Еще один важный литературный ориентир – «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше, хотя тут уместнее говорить не о сближениях, а об отталкивании. Восхищаясь языком своего немецкого предшественника, Джибран принципиально расходится с ним в мировоззрении. Заратустра – поджигатель и разрушитель; Альмустафа – строитель и созидатель. Первый в ожидании преображения живет анахоретом в пещере, второй – среди людей, тесно общаясь с ними, путеводя их. Заратустра ищет и находит в человеческом роде исключительно слабости; Альмустафа выявляет и всячески подчеркивает его силу. Бог одного мертв, тогда как Бог другого жив и прекрасен. Однако есть и несомненные параллели. Например, в трактовке состояния современного человека и пути его духовного возрождения. Согласно Заратустре, сверхчеловек (Übermensch) должен победить человека, который, в свою очередь, победил в себе обезьяну. Ту же, в сущности, триаду – человек-великан (the vast man), человек, пигмей – находим у Джибрана. Сходным образом оба используют