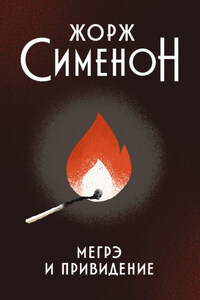Августин по имени Шарль
1
В детстве я думала, что у моей чау фиолетовый язык потому, что она любит чернику. Таскала для неё из аптекарского огорода и удивлялась, почему не притрагивается. Виляет хвостом, смотрит преданно арбузными в цвет закатного неба глазами и не ест.
А потом щенка не стало. Я плакала всю ночь и много следующих дней тоже. Мама даже разрешила не идти в школу. Перед глазами, как косточка в горле, застряли арбузные собачьи глаза. Потом выветрились, конечно, а вот черничный язык до сих пор так и болтается на задворках сознания, не давая позабыть о моей чау-чау.
Чау… Слишком прощальное название для породы. Наверное, древние именователи, придумавшие названия всем существам и предметам, предусмотрели это заранее – пёсий век короток. Будьте готовы проститься.
Жаль, что в жизни невозможно предусмотреть всё остальное. Я о том чёртовом взрыве.
День взрыва или, как говорит моя дочь, день, когда на планете отключили кислород, в нашем календаре отмечен крестиком. Остальные дни – наскальными рисунками на обоях. Их рисует дочь, пока я грызу престарелые сушки, наблюдая, как мир катится ко всем чертям.
«Никто не был готов. Никто, – трещит сегодня из каждой микроволновки. – Точно снег на голову».
Это правда; когда-то в Москве и впрямь выпадал снег. Как обычно нежданно, в декабре. Только суть не в снеге. Суть в отравленном воздухе. Под землю успели уйти не все. Города, будто айсберги, разделились на два мира: один – катакомбный, второй – мой, с блеклым небом, перебитым клавишами мёртвых небоскрёбов. Иногда пыльная завеса оседает, и мы, наземные, верим, что хмарь, наконец, рассеется, но к вечеру першистое дыханье Тьм снова густеет. Никто не понимает, почему. Так и доживаем свой век, взирая на мир глазами аквариумных рыбок сквозь стёкла высоток.
…
– Сейчас мы пойдём с тобой гулять, – сообщает моя дочь.
Сообщает не мне – кукле.
Я в это время копошусь в кладовке.
Чёрт.
Даже если усиленно экономить, запасов круп с консервами хватит едва ли на полгода.
Дочь старательно натягивает на личико куклы игрушечный намордник. Спешит на кухню. Здесь цветут орхидеи, фикусы и жёлтая бегония – всё как в настоящей аллее. Не хватает разве что птичьих рулад.
Над посудомоечной простуженно вибрирует новостная голограмма.
«Десять подростков с портативными аппаратами кр-хк… снова пытались пересечь… кррх-ка-кх…»
Кухонное окно заливает свет. Робкий, сливочно-серебристый, словно подтаявший снег, он сращивает нас со снаружьем. Головки цветов так и льнут к слепому пятну солнца, перебирая листьями, будто плавниками. Правда, вместо листьев мне снова мерещатся черничные языки чау-чау.
– Ты только на прогулку или в кафетерий тоже заглянешь? – окликаю дочь, исподволь намекая на обеденное время.
Вместо ответа – щелчок задвижки. Квартиру окатывает глухой порыв ветра.
Я, как в замедленной съёмке, подскакиваю к кухне, сбивая на ходу тапки, пакеты с гречкой, кляня всё на свете за то, что не выломала к чертям ручки всех окон. Неужели она ОТКРЫЛА?!
Ветер раздувает паруса кухонных занавесок. Силуэт дочери колышется в оконном проёме тощенькой мачтой, овеянной ореолом света и отравленным воздухом Москвы.
Это конец?! КОНЕЦ?..
Моё запоздалое «Не-е-е-е-е-е-т!..», её воззрившиеся на меня глазёнки…
– МАМА, со мной говорила Птица.
– Какая птица?
– Птица с человечьим лицом. Большая, растрёпанная, со спутанными волосами.
– Откуда она взялась такая? Приснилась?
– Нет. Она настоящая. Птица сидела на Дереве. Огромном, выше неба. Выше серого неба и выше чёрного. Самые дальние ветки Дерева купались в звёздной воде, непроглядной, как сама ночь. А те звёзды – совсем не звёзды, а глаза древних существ, что заплутали в ветвях вместе с Птицей. Одни – пугливые, другие – злобные. Они наблюдают за нами, а мы их не видим. Только там, рядом с Птицей можно рассмотреть. Но забраться на Дерево непросто: оно растёт из высокого камня – самого большого камня на свете.
– И что эта птица тебе говорила?
– Птица сказала, что я никогда не вырасту, если не соберу десять частей себя.
– Что за глупости.
– Не глупости. Десять частей. Только где их взять.
Я открываю глаза. В горле першит. Слова о Птице застряли в голове свербящим послезвучием. Говорила не моя дочь – другая девочка.
Этой девочкой была я.
Подранные джинсовые коленки, испачканные ладони. Вытираю их об узкие бёдра. В сумерках грязь не так уж заметна. Мне лет двенадцать. Грудки едва проступают холмиками из-под футболки. Футболку я стащила у брата. До вечера играла с мальчишками в квадрат, пока мяч не перестал угадываться в темноте. Привычные хроники Загаражья.
Только сейчас все куда-то исчезли. Я осталась одна.
Влажно.
Стрекочут сверчки.
В ноздри закрадываются густые запахи тины. Или так пахнут рыбьи потроха? Запахи прорезаются в памяти разделочным ножом. Лезвие вспарывает блестящее брюхо, прыснувшее икорной мякотью, скребёт чешую. Чешуя вспенивается, крошится льдинами, липнет к рукоятке ножа, пальцам, подбородку. Моя мама готовит самую вкусную на свете рыбу. Или… рыбу готовлю я сама? В детстве всегда удивлялась, как это взрослые управляются с гигантскими пододеяльниками, а теперь справляюсь. Скоро и дочь научится.
Стоп. У меня была дочь?!
Чёрт.
Мы умерли? Или отравленная Москва мне приснилась?
Воспоминания увиливают, выветриваются.
Так бывает со снами. Ты просыпаешься и будто бы помнишь сон в мельчайших деталях, но стоит взглянуть в окно, и видения испаряются. Как ни цепляйся за обрывки, они просачиваются песком сквозь пальцы – не остаётся ничего. Как сейчас. Я видела сон о взрослой жизни. Страшный сон о першистом дыхании Тьм. А теперь…
Влажно.
Удары в дверь выколачивают из оцепенения.
Скукоживаюсь под звуком, как устрица, сбрызнутая лимоном. Инстинктивно ныряю в крапиву у дома. От кого прячусь? Сердце колотится, как у воришки. Точно так колотилось, когда утаскивала из книжного раскраску. Казалось, оно того стоило. Правда, я так и не притронулась к ней. Прятала под матрасом и всё боялась, что нагрянет полиция.
Осторожно выглядываю из крапивы. Темень. Вместо россыпи взмывающих ввысь светлячков окон – антрацитовое небо, простреливающее звёздами. Должно быть, в районе вырубило электричество.
Где-то вдалеке, у горизонта, розовеет наспех смётанная быстрой иглой лента заката.
Встряхиваю головой. Волосы щекочут плечи (футболка брата широковата в горловине), но мне это нравится. А ещё нравится, что концы волос, ложась на плечи, завиваются в полукольца. Вырастут – и не станут, так хоть сейчас.
За углом продолжают упорно молотить в дверь. Мужской голос вырывает из раздумий. Нервный и красивый ручьистый язык. Грассирующая «р» наводит на мысли о французском. Французского я не знаю.