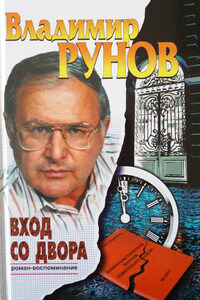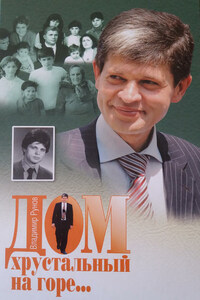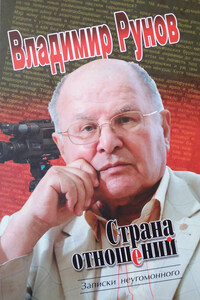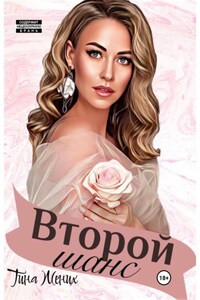Смею Вас уверить, дорогой читатель, что для нас, молодых, послевоенный мир в значительной степени открывался при активном участии кино. Да-да, именно многогранного советского кино, где правда и вымысел порождали в подростковой среде удивительную гармонию отроческих иллюзий, с которыми мы вступали в жизнь, так много чего обещавшую.
Кино, будоражив всех и вся (уже ведь цветное пошло), яркими красками убеждало юность, что все самое трудное (а значит и плохое), позади. Да и по многому видно было! На смену мрачно-загадочному вождю в военной фуражке, которого знали только по портретам, пришел живой, лунообразный балагур в шляпе лопухом, обещавший «златые горы», горячо вколачивая в общественное сознание, что ничего лучше, чем советский строй человечество и не рождало.
Самое интересное, верили! Никита Сергеевич, в отличие от Иосифа Виссарионовича, был такой земной, особенно когда рассуждал о варениках в сметане или принародно обнимался с передовиками сельского хозяйства. Например, с колоритной старушенцией по фамилии Заглада.
Я только начинал сотрудничать на краевом телевидении, как вдруг на крайкомовском «Зиле» в нашу вечернюю программу везут саму, что ни на есть живую Загладу. Она уже гремела по стране в образе народного трибуна и вещала не столько об урожаях (хотя и тут много чего было), сколько драла глотку за советскую власть на некой смеси украинского и русского, этаком простецком суржике, пока однажды не ляпнула на всю страну:
– Где то видано, шоб я, деревенская старуха, да с самим царем обнималась!
Хрущев хохотал громче всех…
– Мужики! – гремела она с трибуны партсъезда, потрясая сухоньким кулачком. – Бросайте лопатиться на своих огородах, идите ковать благополучие страны на бескрайних колхозных полях!
После этакого речитатива первым в президиуме вскочил Хрущев и начал восторженно бить в ладоши. Понятно, что кремлевский зал тоже поднялся и ответил долгой и несмолкающей овацией, криками во славу Родине и партии. Хрущев, придя в восторг от звонких призывов «простой советской крестьянки» (помните, как в фильме «Член правительства»: «мужем битая, попами пуганая, врагами стреляная»), тут же присвоил ей звание Героя труда, громогласно объявив зачинателем нового патриотического движения. Звали ту Загладу не то Надежда Григорьевна, не то Наталья Григорьевна – сейчас уже и не помню.
Так вот, представляете себе тихий воскресный вечер на Краснодарской студии телевидения, находящейся тогда в окружении соломенных крыш зачуханной городской окраины. В эфире очередная нудьга провинциального изготовления о неустанной борьбе за урожай. Мы тогда варились в собственном соку, никакого Центрального телевидения в помине не было, поскольку релейку еще только тянули. Немногочисленный персонал лениво посматривал на часы: «Еще минут сорок и по домам!»
Вдруг по коридору мчится дежурный редактор с перекошенным лицом:
– Ребята! К нам едет крайкомовское начальство! – вопит на все подкрышное пространство.
– Как! Зачем?!
– Представляете, саму Загладу везут для выступления…
– Загладу! – выдохнули хором.
И тут началось! Что такое начальственный аврал на периферийном телевидении – словами не передать! Это когда все орут, мечутся и панической суетой пытаются избежать кары, если насупленным «дядькам из крайкома» что-то покажется не так.
– А как? Вы подскажите, мы из шкуры вылезем! – читается по авральным перемещениям с этажа на этаж. На первом студия, над ней – аппаратная… Туды-сюды, туды-сюды, и все бегом! Как аврал на боевом корабле – «Свистать всех наверх!»
И вот, наконец, сквозь предупредительно распахнутые ворота, возле которых вытянулся заранее оповещенный «страж» (объект-то почти секретный), во двор властно заруливает огромный, угольно-черный «членовоз». Дежурный редактор, точнее редакторша, Лена Ривлина, скрывавшая рубежный возраст за входящим в моду начесом, что в данной ситуации придавало ей вид «безумной Греты» из сказок братьев Гримм, помчалась встречать гостей, словно топиться в находящемся неподалеку озере Карасун.
Пока суть да дело, центр паники перемещается в верхнюю аппаратную, куда доставляют от скуки слегка приснувшего, а перед этим чуть-чуть выпившего дежурного режиссера Виктора Николаевича Малышева, достойного отдельного описания. Дело в том, что на ТВ Виктор Николаевич, занимая должность постановщика музыкальных программ, до недавнего времени к телевидению никакого отношения не имел, поскольку большую часть творческой биографии провел в казачьем хоре.
Еще по средней школе я помню, как в клубе завода измерительных приборов, в ослепительно белой черкеске со всеми прибамбасами, включая здоровенный кинжал и кубанку с алым верхом, он выходил на сцену и начинал протяжно петь:
Как за реченькою, за Кубанушкою,
Там казак коня пас, полынь-травушку рвал.
Полынь-травушку рвал, на огонюшек клал,
На огонюшек клал, свои раны засыпал…
В это время из-за кулис, осторожно звеня шпорами, выходили сотоварищи, тоже в черкесках, но уже алых и, прижав кубанки к груди, подхватывали с пронзительным подвывом:
Умирал казак, да приказывал:
– Уж ты, конь, ты, мой конь, друг-товарищ дорогой!
Полети, конь, домой по дорожке столбовой…
И так далее… Скажу вам, получалось очень впечатляюще. Даже заводская зиповская многотиражка подчеркивала: «Как всегда, проникновенен был солист, неповторимый Виктор Малышев…»
Все бы любо, да беда в том, что Виктор Николаевич не только превосходно пел, но и много пил. Вот по этой причине и оказался однажды на краевом телевидении, куда крайком ссылал всех творчески одаренных пьяниц. Если бы только одаренных…
Малышев долго не мог понять, чего от него хотят, а поняв, поскольку на тот момент оказался по должности самым ответственным, стал орать пуще всех, пытаясь взять ситуацию под контроль. Сидеть на управляющем пульте, ему, правда, не приходилось, особенно в режиме сиюминутности, но выручил опытный и находчивый ассистент Валька Егоров. Тоже, кстати, слегка поддатый, поскольку пили они всегда вместе. Он быстро сообразил, что пару светильников и не менее трех камер надо выставить на угловую выгородку. По его команде туда уже тащили хлипкий трехножный столик, кресло и из дикторской даже прихватили цветы, которые первой красавице края Вале Бароновой чуть ли не всякий вечер присылал какой-то ее полубезумный почитатель.