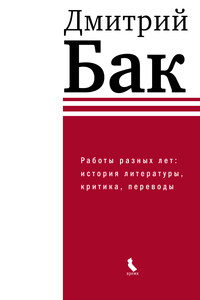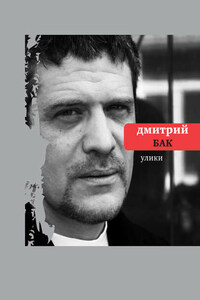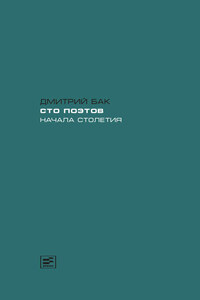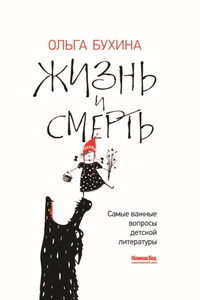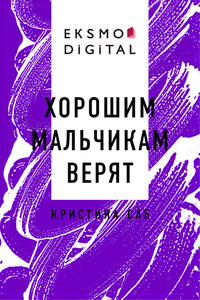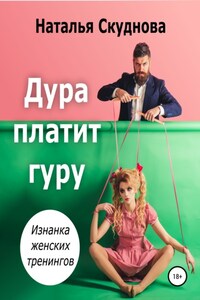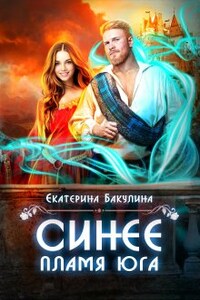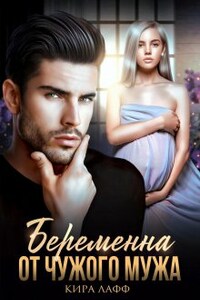Конструирование истории и истории литературы: музейный ресурс[1]
Сегодня в России работают более 400 литературных музеев, и этот факт легко объясним. Как известно, начиная с середины XIX века российская культура отличается так называемым литературоцентризмом.
Это понятие означает, что литература как особый род социальной практики вбирает в себя функции смежных форм социальной активности: публичной политики, религиозных дискуссий, экономики, социологии, существование которых в условиях абсолютной монархии было затруднительным либо вовсе невозможным. Первые литературные музеи были созданы на рубеже XIX и XX столетий, среди них музеи Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Тютчева, Толстого и других.
Вторая волна создания музеев русских писателей – явление начала советской эпохи, в основном 1920-х годах. Именно в 1921 году был создан Московский государственный музей имени А. П. Чехова, самое почтенное по возрасту подразделение ГМИРЛИ имени В. И. Даля, который в 2021 году отметит свое столетие.
Создание музеев во многом было реализацией так называемого ленинского плана монументальной пропаганды, согласно которому государственная политика была направлена на то, чтобы подчеркнуть особую роль тех деятелей культуры прошлого и настоящего, которые были причастны к «освободительному движению», революциям и т. д. Среди них, разумеется, оказались Радищев, Герцен, Чернышевский и другие. По сути дела, речь шла о переписывании мировой истории, которая обретала особую марксистскую телеологию, исходящую из так называемого материалистического понимания истории. «Революционное» акцентировалось, «консервативное» отодвигалось на задний план.
Наряду с «гражданской», государственной историей переписывалась и история литературы, в том смысле, что литературные репутации разных писателей подвергались марксистской, материалистической коррекции. Так, Толстой стал «зеркалом русской революции», борцом с церковью, а его религиозные искания ушли в тень. В Некрасове акцентировалась роль «народного заступника» и замалчивалась деятельность в качестве литературного коммерсанта, крупного издателя.
Особенно показательна трансформация литературной репутации Максима Горького. Он закрепился в общественном сознании как создатель социалистического реализма, автор романа «Мать», основатель Союза писателей, соратник Ленина и т. д. Его причастность к ницшеанству и богостроительству, его оппонирование Ленину, многолетняя эмиграция, авторство цикла статей «Несвоевременные мысли» – все это почти или полностью не упоминалось.
Следует заметить, что «литературная репутация» – историко-литературный термин, впервые предложенный И. Н. Розановым. Именно на основании динамики литературных репутаций, переосмысления роли разных писателей в общей литературной иерархии той или иной эпохи выстраивается «история литературы» в строгом смысле этого термина. История литературы, подобно истории как таковой, есть составляющая разных языков описания, дискурсов, подлежит анализу с точки зрения процессов складывания разных ее версий. Современная наука (исследования Я. Ассмана и А. Ассман, Р. Лейбова, А. Вдовина) приходит к выводу о существовании различных, часто параллельных алгоритмов формирования историко-литературных представлений.
Эти алгоритмы действуют на основе «канонизации» либо «деканонизации» тех или иных литературных репутаций, что в свою очередь оказывает влияние на конкретные литературные иерархии разных эпох. Среди алгоритмов литературной канонизации можно отметить следующее:
• интерпретационная деятельность литературной критики;
• издательские стратегии;
• приобщение к государственной идеологии;
• включение в школьную программу.
К этому же ряду алгоритмов принадлежит и музеефикация. Создание музея конкретного писателя есть признание его особой роли в развитии литературы. Именно поэтому в советское время были созданы музеи Чернышевского и Добролюбова, Горького и Алексея Толстого. По тем же причинам не могло быть и речи о музеях В. Жуковского или А. Григорьева.
В течение XX века, большая часть которого в истории России пришлась на советский период, особое значение имеет соотношение дискурсов истории как таковой и истории литературы. Первое оказывает непосредственное влияние на второе и наоборот. Именно идея воссоздания музейными средствами истории литературы была положена в основу разных концепций «главного», «центрального» литературного музея страны.