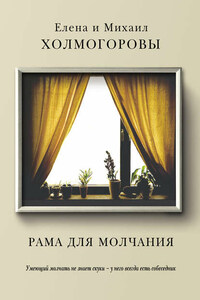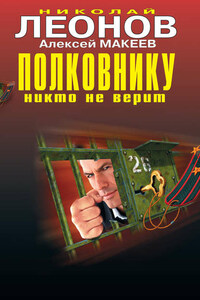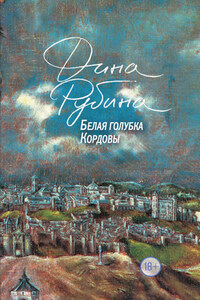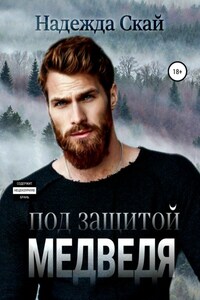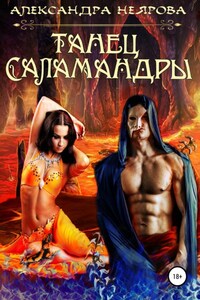Елена Холмогорова
«Остаюсь твой брат Петр Иванович»
Как точно у Иосифа Бродского: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной…» Сейчас трудно придумать по-настоящему экзотическое путешествие. Дебри Амазонки? Гейзеры Камчатки? Южный полюс? Запросто. Любой каприз за ваши деньги! А тогда я обрабатывала отца целую зиму, льстиво напоминала, как маленькой девочкой называла его «пуськаном» за то, что он меня везде отпускал. И уже с подрагивающими губами, еле сдерживая слезы: «Мне скоро тринадцать лет, а я живой свиньи не видела!» Этот аргумент неожиданно оказался решающим.
Провожали меня родители напутствием: «Обещай, что если тебе не понравится, вернешься через три дня!»
Но как мне могло не понравиться?
Моя няня, тетя Паня, по-домашнему, с моей легкой руки, Тёпа, много лет спала на раскладушке, которую расставляла каждый вечер почти вплотную к моей кровати, пока отец не выхлопотал ей комнату в коммуналке. А все мое детство, как только мы гасили свет, я начинала приставать к уставшей за день Тёпе: «Давай играть в колхоз!» Я знала всех председателей колхоза «Имени 8 Марта» с момента его основания, историю укрупнений и разукрупнений, отлично представляла себе его структуру с бригадами и звеньями, разбиралась в системе начисления трудодней и, хоть и умозрительно, была знакома со всем хитрым набором крестьянских работ и забот. Когда мы в школе проходили «Поднятую целину», многое казалось мне странным. Тетя Паня, родившаяся в 1916 году, ярко помнила, как отца заставили отвести в колхозное стадо корову со странным для меня именем Витонка – кормилицу семьи, где тетя Таня была младшим, одиннадцатым ребенком. И почему-то злоба и отчаяние, а вовсе не энтузиазм и радость коллективного труда окрашивали ее рассказы.
Игра наша была почти неизменна, только иногда мы менялись ролями, но сюжет оставался незыблем: утром приходил бригадир к председателю или же звеньевой к бригадиру «за нарядом». И они, обсудив погоду, обязательно начинали препираться, в основном о том, что, мол, другому звену досталась работа полегче.
Няня задремывала, я протягивала руку и теребила ее: «Не спи!» Она ворчала, но, чтобы я отстала, говорила: «Все, вон подводы, пора ехать на поле». Или: «Дождь собирается, скорее метать стога!» Это или что-то подобное означало, что игра закончилась. Потому что собственно в работу мы никогда не играли. Дети любят повторяемость и вовсе не нуждаются в разнообразии.
Конечно же, я знала почти всех жителей небольшого села Юшина не только по именам и фамилиям, но и, что важнее, по прозвищам. Как выглядят и где находятся правление колхоза, магазин и клуб – главные и единственные достопримечательности села, – тоже было мне известно.
Я мечтала попасть туда, как мечтала, чуть позже, попасть в Париж. И эти страстные желания были почти одинаково неосуществимы. «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной…» И что число желаний не убывает, на место сбывшегося немедленно в строй встают новые грезы. И это – счастье.
Перед отъездом мы послали сами себе посылки с консервами и подарками обширной тети-Паниной родне. Я никогда не видела ни Петра Ивановича, ни Пелагеи Ивановны – оставшихся в живых ее брата и сестры. Но в подробностях была осведомлена обо всех деталях их жизни, потому что читала вслух тете Пане письма и под диктовку писала ответы. Пелагея писала скупо и невнятно, к тому же совершенно неразборчиво, зато Петр Иванович – всегда обстоятельно и каллиграфическим, как в прописях, почерком. Не знаю, сколько классов было у него за плечами, у тети Пани – два. «Здравствуй, дорогая сестрица Прасковья Ивановна! С приветом из Юшина твой родной брат Петр. Во первых строках моего письма спешу сказать, что мы, слава Богу, живы и здоровы, чего и вам желаем». Этот зачин он не ленился повторять каждый раз. Как и концовку: «Остаюсь твой брат Петр Иванович».
А посылки – особая тема. Просьбы бывали самые неожиданные. Я еще тогда поняла, что в городской жизни работает принцип: «У меня должно быть не так, как у других» (подразумевается – лучше), а в деревне наоборот: «И у меня должно быть, как у других». Поэтому в письме могло быть написано: «А еще пришли мне рубаху голубую, как у Кольки Рябого» или «Очень хочется мне шапку зимнюю типа «боярыня», как у Вальки Заварной».