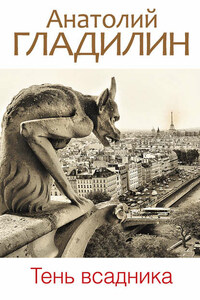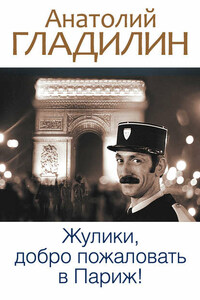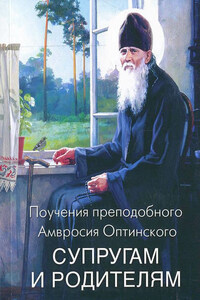Гладилин. Шестидесятник. Первый и последний
1
Как-то на углу улиц Лувр и Риволи, в витрине магазина разных причуд, увидал я оловянных солдатиков. Легионеры Цезаря, ополченцы Вашингтона, гвардейцы Наполеона и гренадеры Кутузова – офицеры, барабанщики, трубачи, знаменосцы, – построенные в шеренги и колонны, они являли образцовую композицию и стремились к ее центру.
В центре же стоял квадратный помост. А на нем – группа фигурок рядом с небольшим несложным сооружением. Рама. Доска. А перед ней – корзина…
Именно. В центре располагалась гильотина.
Не знаю – работала эта модель или нет. Но сделана была филигранно. Как и все с ней связанное. Эшафот, механизм, окровавленный нож, место жертвы, ящик для тела… Каждый элемент был отлит любовно и со знанием дела. Меж войсками и эшафотом имелось свободное пространство, в нем – оцепление в синей форме с пиками в руках. На краю эшафота – некто, держащий в вытянутой руке человеческую голову…
Это чудесно промытое окно располагалось в нескольких сотнях шагов от места, где некогда стояло это устройство, где окончили свои дни и безвестные жертвы, и герои, чьи имена хранит история.
* * *
История… Как много копий наломали об нее люди. И перьев – не меньше.
Уж так крепка. Иной раз слышу вопрос: зачем опять обсуждать темы и тени прошлых времен? Отчего не обратиться к нашему сегодня? Не взглянуть в умные лица и ясные глаза современников? Не отразить славный образ положительного героя на фоне героических панорам блистательных свершений?
Минутку. Разве не этим заняты авторы художественных текстов, исследующие историю – хоть давнюю, хоть новую – ту, что по соседству, за углом? Они обращаются. И глядят. И отражают. Если убрать не так уж много значащие детали и рассчитать по самому большому счету – то и увидим: все (ну – почти) осталось ровно так, как в… какую эру ни возьми.
Люди мнили и мнят себя Бонапартами. И никто не ставит им диагноз. А разве мало считающих себя Сталиным? Скажете: хватит двух-трех? Да хоть одного… Зеркало эпохи – всегда кривое. Но и нас, и их оно отражает такими, какие мы на самом деле.
2
Мудрецы советуют: возьмите вашу историческую память, аккуратно просейте и извлеките из нее всё самое доброе, возвышенное и прекрасное. А после – злобное, гнусное и страшное. Прекрасное – увековечьте. А страшное… – не жгите. И на свалку не мечите.
Что с того, что оно воплощено в людях? Скажем – в террористе-мечтателе «неподкупном Робеспьере»? Или – в террористе-цинике «вожде народов Сталине»?
Пусть наравне с увековеченными и расцвеченными свершениями живут и гильотина, и колонны смерти, и расстрелы в подвалах, и лагеря, и Вандея с Колымой, и напудренный паричок, и от черной трубочки дымок. Все просто: несите свой ужас, свой террор[1] в самые дальние углы музеев и архивов. Для спецов. Кому надо – найдут.
А обычную память пусть тешат изобретатели, первооткрыватели, артисты, герои…
Но – не выходит. Потому что история устроена так, что, едва заведем мы разговор о Робеспьере, тут же явится и Фуше. Заговорим об общественном благе – замаячит тень палача. Затрещат барабаны. Закричат санкюлоты. И женщины с пиками двинутся на Версаль…
А там – король не может взять в толк: как ради снижения государственного долга можно сокращать расходы на охоту? Там Мария-Антуанетта – красавица в вечном поиске развлечений… Но, пардон, это прилично, что она спала с каждым третьим? И разве хорошо дарить казну графине Полиньяк? А ее новая страсть – принцесса Ламбаль? О, сладость поцелуя! О какой государственности речь? Но голодные парижане – всё ближе. А за ними – образ того, чьим именем названа одна из повестей в этой книге, – гения гильотины, погибшего на ней. Максимилиана Робеспьера.
3
– …Жаль, умер старик Вольтер. Ему не надо было бы ничего придумывать, вся наша теперешняя жизнь – сборник анекдотов! – вот что значит глядеть на годы вперед. Так оно было и в XVIII веке, так оно есть и теперь. Повесть «Евангелие от Робеспьера» впервые вышла в СССР в 1970 году. То был год «закручивания гаек». Да такого, что кто-то из читателей даже спросил автора – Анатолия Гладилина: как пропустили?
Но касается она и этого – нынешнего года. И я спрашиваю (про себя) то же самое.
«Как? А вот так…» – отвечает Гладилин. Он и тогда знал, что серию «Пламенные революционеры», в которой вышел текст, смотрит не цензура, а ЦК; а в ЦК есть те, кто и «Любовь к электричеству» Аксенова пропустил. А это – не просто крамола, как «Евангелие». А учебник конспирации. А чего вы ждали от книги про Леонида Красина?[2]
А что хотели от книги про Робеспьера?
Ох уж эта вера Людовика XVI и многих прочих самодержцев в то, что «пока нация полагается на меня, всё будет хорошо». А с чего вы взяли, государь, что она полагается на вас? Когда владыкам сложновато играть в покер и они предпочитают жмурки, в их мир приходят такие тексты, как «Евангелие», и такие авторы, как Гладилин.
4
С Гладилиным, вообще-то, сложно.
Его литературная судьба (а от любой другой она неотделима) поистине удивительна. C середины 50-х его имя гремит в СССР. В 1956-м в журнале «Юность» вышла повесть юного, до той поры никому не известного автора «Хроника времен Виктора Подгурского». И – стала сенсацией! Как порой говорят, «перевернула взгляды целого поколения» и обрела неслыханную популярность. Как и ее автор.
В 1959-м читатель радостно встретил его новую повесть в «Юности» «Дым в глаза». А еще через год – «Песни золотого прииска». Текст вышел в «Молодой гвардии», вызвал дикий скандал, специальные решения ЦК комсомола и окрики в печати. До той поры Гладилин – противоречивый молодой автор. Теперь – литературный хулиган, достойный экзекуции.
Но за что же? За что? А за удачные попытки поделиться своим видением советской действительности. Какой-какой? Советской. Другой он не знает. А эту – очень хорошо.
Сталин развенчан. Устои колеблются. Романтики грезят свободой слова, «социализмом с человеческим лицом». Начальство заявляет, что искусство принадлежит народу? Это значит – нам. Так решают Гладилин и его друзья. На глазах поколения рождается новое культурное движение. А критик Станислав Рассадин (сам того не ожидая) дает ему имя: «шестидесятники». Так называется его статья в журнале «Юность». И он для юной литературы теперь и приют, и оплот, и трибуна.
Здесь – все. Аксенов, Ахмадуллина, Вознесенский, Окуджава, Рождественский, Евтушенко… Их песни, стихи, проза и речи приводят агитпроп в ужас. Да это ж контрреволюция! «Клуб Петефи»![3] Не-ет, мы вам Будапешт здесь устроить не дадим!
На выставке в Манеже Хрущев топает ногами на художников-авангардистов. В Кремле – орет на Аксенова и Вознесенского. А воротилы пропаганды спускают на молодую литературу всю псарню красной критики.