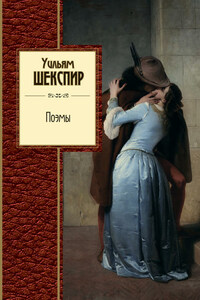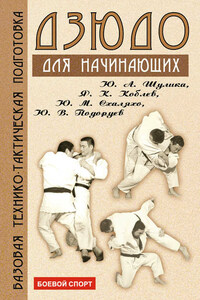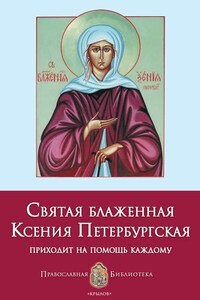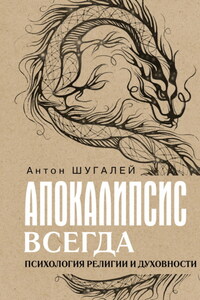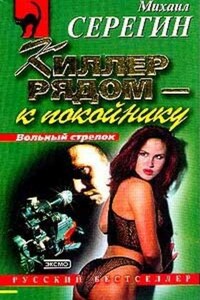Тайный путь русской поэзии
Ранний свет луча дневного
Озарил мой тайный путь.
Н. Языков
Тайна, конечно, и должна оставаться тайной. Хотя, с другой стороны, – «Всё тайное станет явным». Однако афишированная тайна оборачивается или срамом, или трагедией. Думается, евангельская мысль как раз трагична. Тайна была выведена на Голгофу и «обнародована». Но почему разглашение тайны обязательно должно стать ее нарушением, почему не может быть своей тайны у целого народа, у целого человечества, у всей Вселенной? Быть и оставаться тайной? Может – и – есть. Но что такое вообще тайна? Целомудренное чудо. Этим целомудренным чудом и определяется качество человека, народа, произведения искусства. Весьма фривольные Рабле и Вийон – этим чудом обладают (хотя в жизни тот же Вийон по оставшимся свидетельствам был, как теперь говорят, «отморозок»), в «телесах» Рубенса и кошмарах Босха оно есть, даже в песенках ветреных и разбитных битлов оно тоже присутствует. А в иных весьма пуританских и «праведных» трактатах и виршах его отчего-то нет, это при всей искренности писавших…
С другой стороны, некоторые современные авторы полагают, что, чем «гаже» пишешь, тем ярче высвечиваешь «святую» сторону дела. Истоки этой наивности как раз в отсутствии представления о какой бы то ни было тайне. А ведь никакой обратной пропорции здесь быть не может: карнавалу, конечно, природны святые очертания, но литургия от этого не меркнет, а только разгорается ярче в своей первозданности; и все-таки чистая литургия, конечно, стоит здесь во главе угла.
В чем же тогда тайна? Наверное, в покаянии. Я тут «темню» не по игривости и не по мнительности, а потому, что говорить о покаянии в третьем лице некорректно ни в церковном, ни вообще в моральном, аспекте. Более того, человек, обличая себя, тоже ведь ставит себя, в известной степени, в третье лицо: «Ах, я такой-сякой!» – «Ах, он такой-сякой!» (тыча в себя пальцем). Самоуничижение – грех паче гордыни. Покаяние более обширно, таинственно и – просто. «Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог» (Г. Державин). И требуется особая благодать на человеке, чтобы он мог высказать это в стихах, чтобы он, не разглашая суетно, смог передать драгоценную тайну читателю, вывести и его на Тайный путь поэзии, человеческой души.
Начинался тайный путь русской поэзии в молитвах. Невозможно поэтому определить его отправной пункт. Начало же того явления, которое и зовется собственно русской поэзией в современном понимании, традиционно полагается в 18 веке; зачинатели его Ломоносов, Тредиаковский и Сумароков. Можно, конечно, с этим не соглашаться и нежно вспоминать Симеона Полоцкого, или, если уж на то пошло, грезить о звёздно далеком (и звёздно же близком) авторе «Слова о полку». Мы этого делать здесь не станем. Мы, – в известной степени, может быть, условно, – начнем все-таки с века 18-го.
Русский классицизм неслучайно называется русским, как русское барокко тоже неслучайно… Вообще, думается, что жадное впитывание, празднично-тревожное глотание сторонних культурных традиций как раз свидетельствует об обострении национального сознания. Это своего рода присвоение чужих богатств, деланье их своими кровными, это настоящая мужья любовь к полоненной, во всяком случае, всегда чуть насильно, слегка из-под палки приведенной в дом невесте. Такой очаровательной невестой стала для русича Европа. И начался бурный роман, началась поэзия и проза, тиранство и подкаблучничество. Русское барокко, русский классицизм пропитан русским духом, пронизан его сквозьеловыми острыми лучами. Тут и нашлись новые, неслыханные дотоле слова нового русского стиха.
Но как этот новоявленный русский поэт заговорил о Боге? С огромной радостью, с той радостью, с какой ребенок вбегает утром в родительскую спальню рассказать о первом снеге. Каким монашеским подвигом, какими веками сладчайшего праведного молчания накоплена эта детская радость! Слово рождалось, как Бог, и «Слово было у Бога». Ломоносов хвалит Господа с мощью шума деревьев, наката морских волн на берег и – замирает. Василий Капнист – замирает, стискивает эту радость аскетично, но она изливается из его строк ровным притушенным золотым светом. Иван Крылов, картежник, бывший за это дело и под судом, смеется над собой покаянно; сквозь смех, комично кругля глаза, говорит о Гневе Божием, но в этом смехе – священный ужас и опять она – радость веры. Державин, забавный и грузный, кряхтя, забирается на грозовое облако, но там, как капитан на капитанском мостике, расправляет плечи и говорит напрямую с Господом, что ему дозволяет ликующее дерзновение огромной веры.
Вся эта махина русского космоса, русского религиозного и национального сознания встретила ополчившуюся на нее ветреную возлюбленную на Бородинском поле. Любя, встретила. Ведь действительно, Франция была мечтой русского дворянина, соответственно, русского офицера. И вот эта обожаемая Франция двинула полки на Россию, с чаемым призывом к свободе, равенству и братству, с протянутым праздником. Вся Европа побросала оружие перед этим прекрасным праздником. Но – не Россия. Почему?! Шалишь! Равенство равенством, свобода свободой, но не тронь другую, тайную, свободу, не тронь потир чистой литургии своими хмельными устами! Прикрой свои обнаженные перси знаменем своей же революции! Ух, шаромыжники! Оловянные солдатики! Разметал вас по сугробам наш Дедушка Мороз! Взять благодарно чужое – это одно, а подчиниться, встать на колени, отдаться, это – нет! Вот и доказательство пронзительного обострения национального сознания.
Но праздник, хоть и развенчанный, все же не терпит, когда от него отворачиваются, и карает он одиночеством, которое надо выдержать, тогда придет другой вящий праздник. Однако одиночество вовсе не так прекрасно, как принято полагать, и ох как отличается оно от молитвенного келейного уединения. Решили догнать прежний праздник, добежали за ним «бистро» аж до самого Парижа. И – оказались в комическом положении, ведь бежать за праздником – курам на смех. Недаром, по духовному масштабу человек 18 века, князь Михаил Кутузов не советовал идти в Париж. Догонять Наполеона, как обиженную любовницу. Но – побежали.
Так вот. Одиночество. Да, пришло одиночество. Пушкин, Лермонтов оставили заплаканные жемчужины религиозного одиночества, пустынного созерцания волшебного ангельского неба. Тютчев вместе с планетой летел в это небо с бешеной скоростью, похожей на покой… Некрасов старался разделить страдания – не то чтобы народа, а каждого из народа: хоть что-нибудь да разделить, поделить по-братски, как раньше делили победу, теперь он так делил страдания. И потекла музыка. Дивная церковная музыка. Церковная музыка не только в храме, она в поэзии. Фет. Вечерние огни. Это ласковое мерцающее течение медленно поднесло к XX веку.