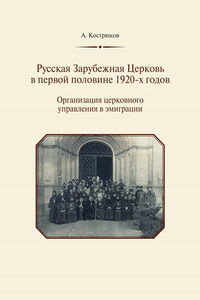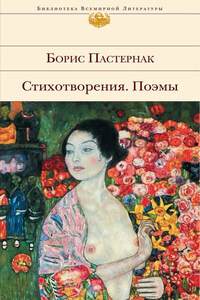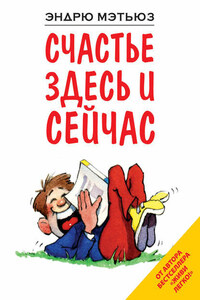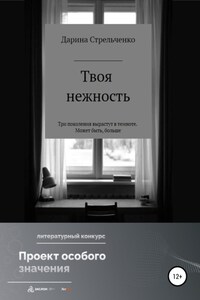Авторы исследований о церковных расколах и разделениях часто встают перед искушением занять позицию одной из сторон. Объясняется это тем, что историки обычно принадлежат к одному из враждующих лагерей и защищают именно свою сторону. При всем старании подойти к вопросу непредвзято авторы, порой даже против своего желания, начинают безосновательно оправдывать одних и столь же безосновательно обвинять других. Особенно заметна эта тенденция в сочинениях, написанных в те годы, когда раны, нанесенные расколом, еще свежи, а неблаговидные поступки тех или иных деятелей еще живы в памяти.
В полной мере это относится к разделению между Московским Патриархатом и Русской Православной Церковью заграницей (РПЦЗ). На протяжении долгого времени работы на эту тему писались в полемическом духе, а в спорах преобладали эмоции. Вместо серьезного анализа сложившейся ситуации часто можно было встретить лишь обвинения, сквозь которые проглядывала личная неприязнь.
Но была и еще одна причина, пресекавшая попытки разобраться в данном вопросе. Труды представителей Московского Патриархата на тему «карловацкого раскола» были написаны в условиях тяжелого гнета советской власти. Историки из Русской Зарубежной Церкви также не могли публиковать объективные труды на эту тему вследствие враждебного отношения официального руководства РПЦЗ к Московской Патриархии.
Только теперь наступает время, когда взаимоотношениям между Церковью в Отечестве и Церковью за границей можно дать объективную оценку. Для этого необходимо понять причины разделения, зародившиеся в первой половине 20‑х гг. XX в. В те годы Архиерейский Синод еще не обвинял Московскую Патриархию в сергианстве и экуменизме[1], не требовал канонизации царской семьи и новомучеников. Эти претензии формировались постепенно, в течение десятилетий.
Годы правления Патриарха Тихона интересны тем, что каких-либо обвинений в адрес Всероссийской Церковной власти со стороны зарубежных архиереев не было. Однако предпосылки к разделению, которое произошло после требования митрополита Сергия (Страгородского) дать подписку о лояльности к большевикам, наметились еще в 1920‑1925‑е гг. Именно этот период и будет рассмотрен в настоящей работе. Представляется важным проследить, как возникла Русская Зарубежная Церковь, как складывались ее отношения с Церковной властью в Москве, как обосновывали свои взгляды зарубежные иерархи и церковные деятели.
Говорят, что к истории сослагательное наклонение неприменимо. Однако, изучая документы того периода, трудно отделаться от мысли, что отношения между Москвой и Карловцами могли сложиться не столь трагично. Нельзя не учитывать личных амбиций иерархов, а порой их явных ошибок, нельзя не учитывать внешних обстоятельств, заложниками которых оказались представители каждой из сторон. Подробный, тщательный анализ всего, что произошло в те годы между Всероссийской Православной Церковью и Зарубежным Синодом, необходим. И, несомненно, труды, посвященные анализу фактов из жизни Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви, будут появляться.
Хочется надеяться, что настоящая работа может послужить очередной ступенью к дальнейшим исследованиям. Автором предпринята попытка рассмотреть ситуацию тех лет с использованием документов – или неопубликованных, а потому недоступных широкой публике, или опубликованных, но по каким-либо причинам оставшихся незамеченными. Особую важность в данном исследовании имеют документы, являющиеся ключевыми для Карловацкого Синода, вехами его исторического пути. При этом нельзя отрицать значение материалов, свидетельствующих об альтернативных для Зарубежной Церкви путях. Это письма и доклады различных лиц, предлагавших Синоду предпринять те или иные шаги в его деятельности. Это споры по различным вопросам, содержащиеся в переписке между иерархами. Очень важным представляется вопрос, как реагировали на патриаршие указы и заявления зарубежные архипастыри, в каких направлениях шла полемика между ними.
При написании данной работы автор неоднократно испытывал соблазн увлечься полемикой, развивая доводы, приводимые в этих спорах. Однако каждый раз приходилось останавливаться, ибо легко склониться на позицию одной из сторон, что помешало бы объективному взгляду на происходившее. Поэтому свое мнение в отношении документов автор постарался свести лишь к необходимым комментариям. Читателю может показаться, что в книге есть недоговоренности, уход от оценки тех или иных событий. Чувство неудовлетворенности может возникнуть как у защитников Зарубежного Синода, так и у сторонников Московской Патриархии. Но автор не ставил перед собой цель оправдать только одну из сторон, а постарался выявить в этой полемике сильные и слабые стороны как тех, так и других, стараясь не вмешиваться в нее.
Книга подготовлена на базе материалов Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) с привлечением документов Архива Отдела внешних церковных связей (Архив ОВЦС) Московского Патриархата. Цитаты даются в соответствии с Правилами издания исторических документов. Выделения в тексте, сделанные автором, оговариваются в квадратных скобках. Архив ОВЦС в настоящее время не разобран, в связи с чем в ссылках на его документы дается только название папки и номер листа.
В Приложении помещены неопубликованные архивные материалы из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ). Всего в книге представлено 37 документов, из них 34 публикуются впервые. Данные материалы выявлены в фонде Русского зарубежного исторического архива (РЗИА), переданного после Второй мировой войны Центральному государственному архиву Октябрьской революции (ныне ГА РФ). Публикуемые документы хранятся в фонде 6343 – Архиерейский Синод Русской Православной Церкви заграницей.
В соответствии с Правилами издания исторических документов материалы расположены в хронологическом порядке. Каждый документ снабжен порядковым номером. Археографическое оформление документов включает составленный автором заголовок, состоящий из следующих элементов: разновидность документа, автор, адресат, краткое содержание. В случае отсутствия даты в документе таковая устанавливалась автором на основе косвенных данных (штамп регистрации, смежные документы дела, сопроводительное письмо и т. д.). Дата, установленная автором, заключена в квадратные скобки. После подписи указываются резолюции и пометы содержательного характера. Регистрационный номер не воспроизводится. Каждый документ заканчивается архивной легендой, содержащей архивный шифр: аббревиатура архива, номер фонда, описи, дела, листа, а также указание подлинности (копийности) и способа воспроизводства документа (рукопись, машинопись). В случае, если документ написан полностью от руки, мы имеем дело с «автографом».