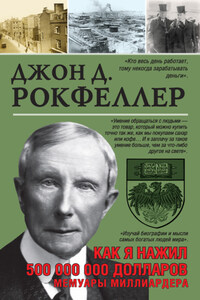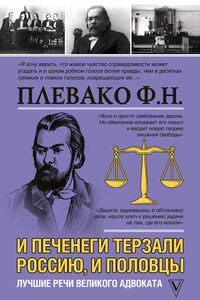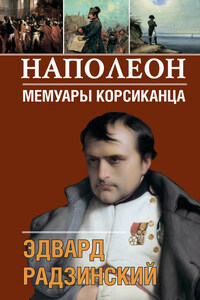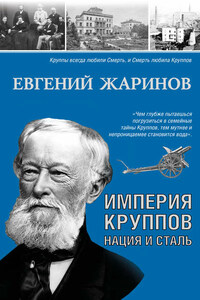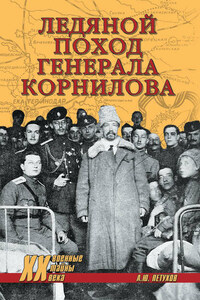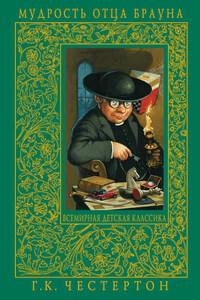Едва ли в истории европейских государств найдутся еще такие примеры: когда неограниченный монарх великой державы оказал своему соседу такую услугу, как император Николай – Австрийской монархии. В 1849 г. Венгрия находилась в опасном положении. Он пришел ей на помощь 150-тысячным войском, усмирив страну, восстановив там королевскую власть, а затем отозвал свои войска и не потребовал за это никаких выгод, никакого возмещения, не упомянул о спорных вопросах – восточном и польском. Николай продолжал оказывать Австро-Венгрии дружескую и бескорыстную помощь не только во внутренней политике, но и в дни Ольмюца [1] – во внешней политике и за счёт Пруссии. Если бы даже он руководствовался не дружбой, а теми соображениями, которые диктовала ему императорская русская политика, всё это было чем-то большим, чем обычная политическая услуга, оказанная одним монархом другому монарху, – лишь такой самовластный и рыцарственный самодержец, как Николай, был способен на этот поступок.
В то время Николай видел в императоре Франце-Иосифе своего преемника и наследника в правлении консервативной триадой [2]. Последнюю он считал единой перед лицом революции и, заботясь о поддержании ее гегемонии, надеялся больше на Франца-Иосифа, нежели на собственного наследника. Что касается способности нашего короля Фридриха-Вильгельма взять на себя роль вождя на поприще политической практики, то о ней он был еще более низкого мнения и считал, что король, равно как и его собственный сын и наследник, не способен руководить монархической триадой. В Венгрии и Ольмюце император Николай действовал, будучи убежденным в том, что волей божиею он призван встать во главе монархического сопротивления революции, надвигавшейся с Запада. Но он был идеалистом по природе, хотя обособленность русского самодержавия и придала ему определенную черствость. Нужно лишь удивляться, как при всем, что ему пришлось пережить начиная с декабристов, он пронес через всю свою жизнь идеалистический порыв. Из одного случая, рассказанного мне самим Фридрихом-Вильгельмом IV, ясно, как Николай понимал отношения со своими собственными подданными. Как-то он попросил Фридриха-Вильгельма прислать двух унтер-офицеров из прусской гвардии для массажа спины, который ему предписали врачи и во время которого пациент должен был лежать на животе. Просьбу он сопроводил словами: «С моими русскими я справлюсь всегда, лишь бы я мог смотреть им в лицо, но со спины я бы все же предпочел их не подпускать». Унтер-офицеры были отправлены тайно, использованы по назначению, после чего получили щедрое вознаграждение. Несмотря на религиозную преданность русского народа своему царю, Николай не был убежден в своей защищенности, даже с глазу на глаз с подданным-простолюдином. Но сильный характер и воля до конца дней не давали этим чувствам сломить его.
Если бы в те времена у нас на престоле было лицо, столь же приятное ему, как молодой Франц-Иосиф, то он, возможно бы, поддержал Пруссию в том споре о гегемонии в Германии, как поддержал он Австрию. Условием для этого служило бы закрепление Фридрихом-Вильгельмом IV победы своих войск в марте 1848 г., и это было вполне возможно без тех последующих репрессий, похожих на те, которые пришлось Австрии применить в Праге и Вене руками Виндишгреца, а в Венгрии – благодаря русским.
В мое время в обществе Петербурга можно было видеть три поколения. Самое высокое из них – европейски и классически образованные grands seigneurs [вельможи] времен Александра I – исчезало. К нему относились Меншиков, Воронцов, Блудов, Нессельроде, а по уму и образованности также и Горчаков, который вследствие своего непомерного тщеславия несколько уступал вышеназванным. Все они принадлежали к сливкам европейского общества, имели классическое образование, свободно говорили не только по-французски, но и по-немецки. Второе поколение – это ровесники императора Николая, или же отмеченные его печатью. Эти люди в своих разговорах были ограничены преимущественно придворными новостями, театром, продвижением по службе, наградами и сугубо военными вопросами. В качестве исключения здесь может быть назван старик-князь Орлов, выделяющийся своим характером, изысканной учтивостью и безупречным отношением к нам и по своему духовному облику приближающийся к старшему поколению, а также граф Адлерберг и сын его, впоследствии министр двора, наряду с Петром Шуваловым, светлейшая голова, из тех, с кем мне приходилось там встречаться, пожалуй, ему не хватало только трудолюбия, чтобы играть ведущую роль; это и князь Суворов, более других симпатизировавший нам, в нём традиции русского генерала николаевских времен сочетались в резком, но не вполне приятном контрасте с привычками немецкого бурша, вышедшего из немецких университетов; это и железнодорожный генерал Чевкин [3], человек в высшей степени тонкого и острого ума, каким часто выделяются горбатые люди, обладающие своеособым умным строением черепа, – он всегда ссорился и одновременно был в дружбе с князем Суворовым; и, наконец, это барон Петр фон Мейендорф, самое приятное, с моей точки зрения, явление среди дипломатии старшего поколения. В свое время он был послом в Берлине, а по образованию и утонченности манер относился скорее к александровскому времени. Благодаря своему уму и смелости он в ту пору пробился из положения молодого офицера армейского полка, с которым был во французских походах [4], на уровень государственного деятеля, к словам которого внимательно прислушивался император Николай. У Мейендорфа был гостеприимный дом как в Берлине, так и в Петербурге, туда всегда было приятно прийти. И этому в немалой степени способствовала его супруга, женщина благородная, глубоко порядочная, приветливая и с мужским умом, еще более ярким образом, чем ее родная сестра, госпожа фон Фринтс во Франкфурте, подтвердившая ту истину, что в семействе графов Буоль наследственный ум передается именно по женской линии [5]. Брат её, австрийский министр граф Буоль, не получил той его доли, без которой нельзя распоряжаться политикой великой монархии. Эти брат и сестра не были друг другу ближе, чем австрийская и русская политика. Когда меня в 1852 г. послали с чрезвычайной миссией в Вену, отношения между ними были еще таковы, что госпожа Мейендорф была склонна облегчить осуществление моей, дружественной Австрии, миссии: несомненно, ею руководили инструкции супруга. Император Николай в то время желал нашего соглашения с Австрией. Когда год или два спустя, во время Крымской войны, речь зашла о моем назначении в Вену, отношение госпожи Мейендорф к брату проявило себя в следующем: она надеялась, что я приеду в Вену и «доведу Карла до желчной лихорадки». Как жена своего мужа, госпожа Мейендорф была русской патриоткой, но даже без этого она и по своему личному побуждению не могла одобрить той агрессивной и неблагодарной политики, на путь которой граф Буоль толкал Австрию. Третье, поколение – молодое – обычно обнаруживало меньшую учтивость в обществе, подчас дурные манеры и, как правило, большую антипатию к немецкому, в особенности же к прусскому, нежели оба старших поколения. Когда по незнанию русского языка к этим господам обращались по-немецки, они не прочь были скрыть, что понимают этот язык, отвечали неучтиво или вовсе отмалчивались, а в своем отношении к штатским далеко не соблюдали того уровня учтивости, какой был принят в кругу лиц, носивших мундиры и ордена. По распоряжению полиции слуги представителей иностранных правительств носили галуны и особо присвоенные им ливреи. Это было вполне целесообразно, ведь иначе члены дипломатического корпуса, не имевшие обыкновения носить на улице мундир и ордена, рисковали такими же, порой крупными, неприятностями с полицией и лицами из высшего общества, каким зачастую подвергались на улице или на пароходе штатские, если они не имели орденов или не были известны как лица знатные. То же самое я наблюдал в наполеоновском Париже Если бы я прожил там дольше, то мне пришлось бы усвоить французский обычай и ходить по улице не иначе, как с тем или другим знаком отличия. Однажды во время какого-то празднества на одном из парижских бульваров мне довелось быть свидетелем такой сцены: толпа из нескольких сотен человек оказалась не в состоянии двинуться ни взад, ни вперед, попав из-за чьей-то нераспорядительности между двумя отрядами войск, которые маршировали в противоположном один другому направлении. Полиция, не понимая причины затора, бросилась на толпу, пустив в ход кулаки и столь излюбленные в Париже coups de pied [пинки ногой], пока не встретилась лицом к лицу с каким-то monsieur decore [господином с орденом]. Красненькая ленточка побудила полицейских выслушать протесты ее носителя и заставила их наконец убедиться, что толпа, которая казалась им строптивой, на самом деле была зажата между двумя отрядами войск и поэтому не могла никуда податься. Начальник взъяренных полицейских вышел из положения с помощью шутки: указывая на отряд венсенских стрелков, которые дефилировали беглым шагом и не были им замечены с самого начала, он произнес: «Ну что ж, придется обратить их в бегство». Публика, включая избитых, захохотала, все же, кто избежал побоев, разбрелись с чувством признания к decore, который спас их своим появлением. Теперь и в Петербурге я рекомендовал бы выходить на улицу не иначе, как со знаками одного из высших русских орденов, если бы здешние расстояния не заставляли по обыкновению пользоваться каретой, а не ходить пешком. Даже при езде верхом, но в штатском и без конюха не всегда было можно избежать опасности и стать жертвой злого языка или неосторожной езды кучеров видных сановников, которые отличаются своей особой формой одежды. Тот всегда поступал правильно, кто свободно владел конем и имел при себе хлыст, добиваясь при таких конфликтах признания законности своего равноправия с хозяином кареты. Большинство немногочисленных всадников в окрестностях Петербурга составляли немецкие или английские купцы, избегавшие в силу своего положения неприятных столкновений и предпочитавшие снести оскорбление, но не обращаться с жалобой к властям. Лишь малая часть офицерства пользовалась отменными для верховой езды дорогами на островах или в ближайших окрестностях столицы, да и та была, как правило, немецкого происхождения. Все старания высших сфер пристрастить офицеров к езде верхом не имели стойкого успеха и приводили только к тому, что в течение нескольких дней после каждого напоминания навстречу императорским каретам попадалось чуть больше всадников, чем обычно. Отличительно то, что лучшими наездниками среди военных прослыли два адмирала: великий князь Константин и князь Меншиков. Помимо искусства верховой езды тогдашнее молодое поколение уступало предшествующему поколению современников императора Николая I в соблюдении манер и хорошего тона; в смысле европейского образования и общего уровня воспитания представители обоих этих поколений уступали старым вельможам времен Александра I. Все же в придворных кругах и в так называемом обществе, а также в тех аристократических домах, где преобладало влияние дам, имел место безупречный светский тон. Но молодые люди проявляли совсем уже не ту учтивость, когда приходилось с ними сталкиваться при таких обстоятельствах, где они находились вне влияния и контроля придворной сферы и дам высшего круга. Не мне судить, в какой степени то, что мне пришлось видеть, можно объяснить общественной реакцией со стороны молодого поколения против довольно сильного прежде немецкого влияния и в какой – упадком образования в русском обществе по сравнению с эпохой императора Александра I. Возможно, здесь сказалась и ситуация в парижском обществе, которое оказывает свое воздействие на русский высший свет. Хорошие манеры и отменная учтивость уже не так часто встречаются в господствующих кругах Франции, за пределами Сен-Жерменского предместья, как это было ранее и как я наблюдал это при знакомстве с пожилыми французами и дамами всех возрастов во французском, а в еще более выгодном свете – в русском обществе. Так как мне по моему положению в Петербурге не приходилось сильно близко сталкиваться с младшим поколением, я вынес из моего пребывания в России лишь хорошие воспоминания, благодаря любезности двора, пожилых мужчин и дам светского круга. Антинемецкие настроения молодого поколения дали знать о себе вскоре не только мне, но и другим лицам в области политических отношений с нами особенно сильно с того времени, как мой русский коллега князь Горчаков стал проявлять по отношению ко мне обуявшее его высокомерие. До тех пор пока, претендуя на участие в моем политическом воспитании, он видел во мне только младшего сотоварища, благосклонность его не имела границ, а формы, которые принимало его доверие, выходили за пределы, допустимые для дипломата; может быть, он делал это с предвзятой целью, а возможно – из потребности покичиться перед коллегой, который сумел убедить его в своем преклонении перед ним. Отношения подобного рода стали немыслимы, едва я в качестве прусского министра принужден был развеять иллюзии, которые он питал насчет своего личного и политического превосходства. Отсюда гнев. Только я как немец, или пруссак, или как соперник начал выдвигаться на своё место в признании Европы и в исторической публицистике, как его благоволение ко мне превратилось в неприятие.