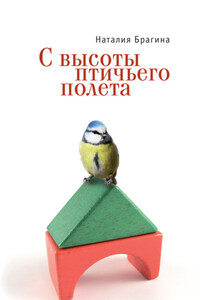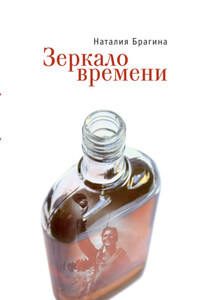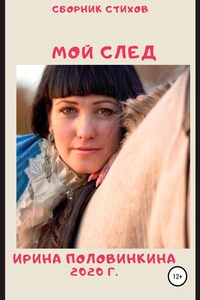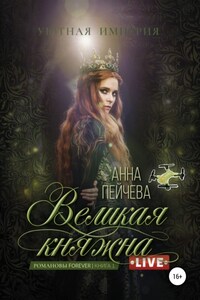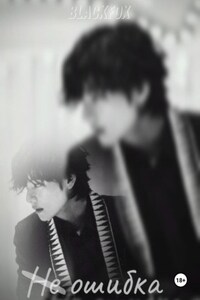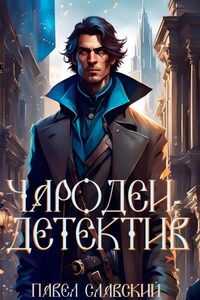Каждый год на заснеженных ветках огромного куста сирени деловито крутились три синички. Куст достигал балкона второго этажа и вплотную примыкал к нашему окну на первом. Прыгая с ветки на ветку и что-то поклевывая, синички заглядывали в окно. Иногда они начинали постукивать клювиками по стеклу, как бы давая понять, что снаружи тоже живые существа. Неуклонность их появления за окном порождала иллюзию их причастности нашей жизни. Еще больше синичек было в другом гигантском кусте сирени, росшем у окон домика напротив. Весной, правда, эти любопытные прелестницы исчезали или, может быть, растворялись в пестрой растительности двора… И потому летней стороны нашей жизни они могли и не знать. Но оставались вездесущие воробьи. Вот уж кто мог знать о нас все – и зимой, и летом.
Крылатые наблюдатели были самыми постоянными обитателями здешних мест. Им были открыты все наши поступки, все происходимые с нами метаморфозы. Если отбросить расхожее представление о птицах, как о существах неразумных, можно предположить, что синицы и воробьи, думаю, были единственными в мире, кто располагал общей картиной изменения нашего места во времени.
Это самое «наше место» представляло собой каре двора между двумя двухэтажными коттеджами, со всех сторон окруженными городской флорой. Устное предание свидетельствует, что в конце двадцатых годов специально для первых советских летчиков-испытателей были выстроены рядом четыре одинаковых кооперативных домика. Строили их то ли немцы, то ли голландцы, что не так уж и важно. В народе же их без обиняков называли «голландскими домиками».
Птицы – и только они одни – имели прекрасную возможность проследить зарождение, расцвет и исчезновение с лица земли одного из московских оазисов – этого случайного порождения истории. А началось все с ликвидации доисторического пласта. Вальяжная, ничем не нарушаемая жизнь пернатых, так удачно и прочно, как им казалось, угнездившихся в полусельском, полудачном районе по соседству с Ипподромом, была к их неудовольствию нарушена сносом одноэтажных деревянных домов – плода индивидуализма и частного капитала. На их месте то ли немцы – то ли голландцы очень споро возвели, как уже было отмечено, четыре двухэтажных, о шести квартирах каждый, домика, чье кооперативное владение более соответствовало духу наступившего нового времени.
Само собой разумеется, птицы не вникали в смысл социально-экономических перемен, их совсем не смутила смена форм собственности – их волновали последствия. И, с точки зрения этих коренных обитателей, результаты оказались не так уж и плохи. Прежние яблоневые да вишневые садочки, исчезновение которых в момент перехода от частной к кооперативной собственности заставило местных пернатых покинуть родные места и, как полагали многие из них, навсегда, были вновь, и очень быстро, возрождены в виде палисадников с сиренью, диким виноградом, золотыми шарами, петуньями, левкоями и прочими пахучими и яркими садовыми прелестями. К тому же была восстановлена яблоневая аллея, внутри которой пролегли маршруты трамваев двадцать третьего и шестнадцатого номеров. Была надежда, что переход к новой форме собственности для птиц оказался совершенно безболезненным.
Вполне возможно, пернатые и не обратили особого внимания на очередную смену форм собственности: из кооперативных голландские домики стали государственными. И управляться они стали домоуправами, что случилось уже в начале тридцатых годов, никоим образом не затронув флористической среды обитания.
Но нет сомнения, что мимо их внимания не могла пройти полная смена двуногих обитателей этого очаровательного зеленого уголка. Ни воробьи, ни синицы, ни даже жившие еще в те времена малиновки не смогли установить, в каком направлении исчез полный состав первых советских летчиков-испытателей, среди которых были даже и легендарные личности. Запомнилось наиболее часто звучавшее в дворовом пространстве имя одного такого героического человека – Экатова. Но, увы, одно только это бесплотное имя.
Их сменили более прогрессивные по своему социальному положению рабочие с того самого авиационного завода, где производились самолеты, испытываемые летчиками, так бесследно исчезнувшими с птичьего горизонта.
Новые поселенцы были лучшими из лучших. Можно сказать, это были сливки авиационного пролетариата – это были стахановцы… Были они людьми чинными, носили костюмы-тройки, а некоторые даже и шляпы, другие – правда, кепки. И жены у них были вполне добропорядочные – еще довольно худощавые и по старой деревенской привычке заматывавшие головы платками. Правда, стахановцы и прочие передовики завода вселялись уже в государственные квартиры и имели дело не с жилтовариществом, а с домоуправом. О судьбе небесных испытателей – их предшественников – не было ни слуху, ни духу, ни разговоров. Новые поселенцы их знать не знали, в глаза не видали, да и вообще не особенно обременяли себя мыслями о тех, кто был до них.
Сохранились во дворе фундаментальные теплые гаражи. В свое время, если верить все тем же сомнительным слухам, всем испытателям были подарены то ли заводом, то ли лично товарищем Сталиным легковые машины «эмки». Сами эти гаражи своей добротностью, большими висячими замками, прочными металлическими выкрашенными суриком дверьми производили внушительное впечатление. Жильцы относились к ним с почтительным уважением, как если бы они были памятниками отечественной истории или архитектуры. Впечатление музей-ности усугублялось их мертвой отстраненностью от остальной жизни двора. Никто не отмыкал огромные замки, не растворялись двери, не въезжали и не выезжали таинственные «эмки». Дворник старательно перемещал речной песочек, покрывавший пространство вокруг гаражей, и следы его метлы сохранялись нетронутыми от дождя до дождя.
Одним летним воскресным днем около гаражей появился мрачный мужчина. Огромным ключом он стал примериваться к замкам и внезапно открыл один из них. Не обращая внимания на подтягивающийся местный молодняк и заполняющиеся, открытые по случаю летнего дня, окна телами более зрелой части жителей голландских домиков, он собственными руками выкатил одну из затворниц, расстелил брезент и неожиданно улегся рядом с машиной. Лежал он долго. Молча что-то щупал пальцами. Заглядывал под днище машины. Какое-то время он еще постоял около машины, походил вокруг…
Потом так же молча свернул брезент и с помощью соседского мальчика вкатил машину обратно в гараж и повесил замок. Если бы не упомянутый соседский мальчик, увлекавшийся в то время фотографией, я была бы уверена, что вся эта молчаливая акция мне приснилась. Ведь молчали все: и главное действующее лицо, и зрители в окнах, и молодняк, да, похоже, и я. Мальчик Юра Голубков в нашем дворе слыл самым решительным сторонником технического прогресса. У него единственного был фотоаппарат, который висел на его шее с раннего утра и до поздней ночи. Известно было также, что Юра сам собирает радиоприемник – своими собственными руками! Пойдя сразу после школы работать все на тот же авиационный завод, он чуть ли не на первую зарплату купил себе мотоцикл с коляской. И во всех Юриных начинаниях я была непременным участником и свидетелем.