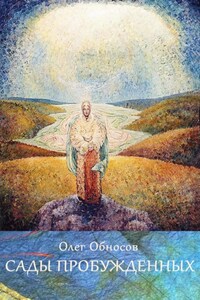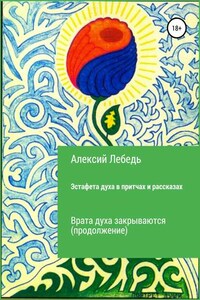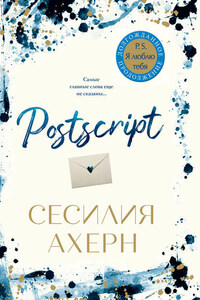«И свет во тьме светит,
и тьма не объяла его».
Евангелие от Иоанна (1. 5)
Эта книга рождена Севером. Там, в тихих потаенных уголках, среди чудных озер, собирались первые ее слова. Они открывались книгой жизни и приходили отовсюду. То вспыхивали капельками росы на полевых цветах, то звучали кронами деревьев в мерном дуновении ветра. Они могли просто затаиться на тропинке в лесу или вдруг обозначит себя на глади озерной воды. Слова приходили из неведомого напевно, словно музыка в вибрациях света, что заполняет пространство леса щедрой россыпью солнечных зайчиков.
Хорошо в жарком лесном мареве, в теплых волнах спешащего ветра среди шершавых стволов. Если мои глаза уставали и их застилала пелена суетного, то он омывал их. Омывал силою солнца, его лучами свободно струящихся струн по просторам распахнутых далей. Лес также одаривал меня своей тишиной. Я растворялся в ней. Так ко мне приходила ясность мысли, та чистота образа сути вещей, что подобно прозрению, вспышке света, открывающим тайну, полноту несказанного. Оттого мои лучшие картины писались на Севере. Я их вынашивал, когда ходил по лесным тропам. И представляли мне имена свои озера и болота, реки и студеные родники, камни и травы, звери и птицы. Дорога разворачивалась передо мной клубочком, заманивая вдаль. Ковром расстилался мох, дивным узором ложился на камнях лишайник. И все это было со мной и во мне. И все это я старался запечатлеть в душе, создать образ, принять этот мир. И было это глубоким вдохом моим, питанием моим для легких и сердца.
Когда меняется сознание – меняется и мир вокруг. То, что казалось раньше благом, теперь требовало переоценки. Взять, к примеру города, которые я раньше посещал по своим делам, сейчас они открывались мне погруженными в самих себя, опрокинутыми в суетное. Они требовали своей дани. Поэтому немудрено, что там, в многоглаголящем, обретенный образ терял свои ясные очертания, размывался и исчезал. Дни, проведенные в мегаполисе, были моей утратой, потерей, ведь выход требовал необходимости вдоха, сопричастия к благому, а его не было, и образовавшееся бездушье приводило к болезни.
Так многомерное городское существо из стали и бетона съедало искреннее лесное. И для меня просто насущно становился поворот к простому и чистому состоянию мысли, что дарует Север. Возвращение туда, где образ исподволь вновь зарождался, реализовывался из уже почти эфемерного, съеденного городским шумом духовного пространства. И надо признать, что это пространство совершенно необходимо человеку, его душе, поскольку по своему рождению она жаждет полета. Она стремится к искреннему своему пребыванию, к той чарующей простоте, что придает ясность в помышлении и свободу в проявлении чувств. И плохо, когда человек проходит мимо себя, выстраивает свой путь вне своей сути, вне своего предназначения. И плохо, если человек не имеет земли своей, как не принимает матери своей. Поэтому именно здесь, на северных просторах, где много воды, где камень создает острова среди болот и озер, ту каменную сушу, на которой, по сути, и растут деревья с кустарниками, мне и открылось, что истинно питает человека. А значит дает благо ему, приходит то омовение и столь очистительное освобождение от мудрствования его, от полусонной одури и суматошной деятельности его, от всего того шума, что поглощает человека в городе целиком.
Но при этом я не стремлюсь к одностороннему отражению мира и не испытываю фобий к городу. Пусть мои слова не воспринимаются как отповедь «деревенщика» чуждой городской среде. Здесь другое, в данном случае говорится об образе, о той глубинной тайне, что открывает человеку его истинную суть. Так что в книге это слово выделено в своем сущностном значении непререкаемого канона, оставляющего свой след на поле вечности. Образ, тем самым, ближе к мировоззренческому понятию, отмеченному резцом, «то, что вырезано, выбито», а не эстетическому – «нарисованному», приобретшему «вид, форму».
Краски жизни могут поблекнуть, а вот выбранный путь оставляет глубокую борозду. И трудно здесь что-либо изменить, ведь как человек сообразовывает, видит и воспринимает мир, так и творит свою судьбу. И если нет на данном пути целостного видения, то это приводит к поражению, поскольку личность в осознании себя теряет реальное представление и обращается к фиктивному, и вместо истинного почитания создает себе кумира. Потеря образа, как потеря мысли, – искажение того ясного видения пути, которому человек следует, что выбирает для себя как неоспоримую ценность. Поэтому последовательное отрицание всякого образа может привести лишь к «черному квадрату». Чистый же свет, напротив, в своей символике белого холста противополагается тьме. И пусть при этом свет в своем значении «белого квадрата» определяется в буддизме как «пустота», однако он несет именно прообраз, а не отсутствие образа. Из тишины рождается образ, из глубины потаенного, невысказанного.
И вот эту тишину изначально и начинаешь постигать через омытую чистоту Севера, что требует от художника определенных светлозвучащих по тональности красок и немногословной ясной формы. Вот озеро, вода которого может быть спокойной и тихой настолько, что деревья и небо отражаются в нем, как в зеркале, причем, небо в воде обретает некоторую запредельную неведомую даль. А то вдруг картина меняется: озеро забурлит, всклокочет, и побегут по нему белыми гребнями волны. Они, подобно парусам, наполнятся порывами ветра и понесутся валом бурлящим стремительной силы. Но встанет на их пути другая сила, непреступный берег, и разобьются летящие волны тысячами брызг о камни его. Но даже в этом шуме сохраняется тишина. И это на первый взгляд парадоксально. Ведь известно, что петербургская стихия наводнения поднимает в человеке нечто темное, иррациональное. А здесь буйство ветра не угнетает, а очищает. И если вы по какой-то причине находились в избушке зимой, а вокруг бушевала февральская вьюга, раскачивая сосны, словно тростинки, то вы, конечно, поймете, о какой тишине идет речь.
Тишина – это самое непередаваемое и значительное состояние северных просторов. Такую тишину можно встретить на закате, когда солнце неспешно садится за горизонт озерной глади вод. При этом может случиться и чудо. Небо вдруг охватывает феерия огня, от которого невозможно оторваться. Причем, там, где глаза видят благотворно льющийся свет, там ухо различает музыку. Она словно нисходит с небес на землю и заполняет лес, а он уже перепевает ее на все лады величаво и неторопливо.
Сама тишина рождает музыку, мелодия исходит из нее в своей искренней неповторимости. И главное, этот природный напев не своеволит, не стремится поразить слушателя, в нем нет пустого многоглаголящего эффекта, он прост и чист, питаем тишиной.