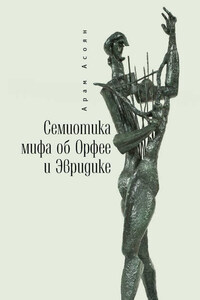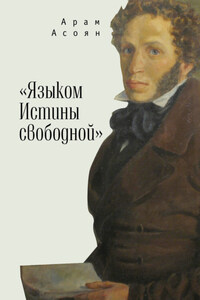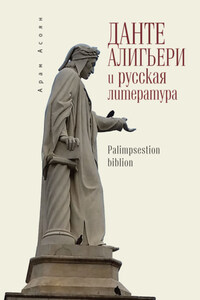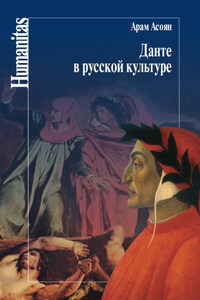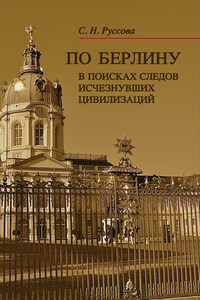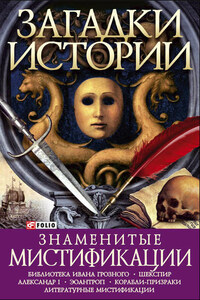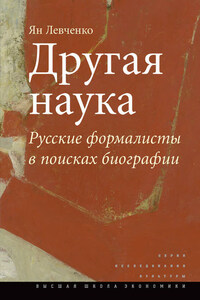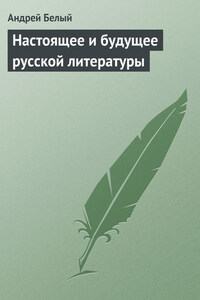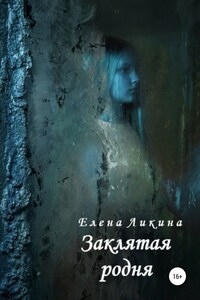…античный миф все еще не только определяет материал, но и самые формы нашей творческой мысли.
И. Анненский
Критерий здесь не точность, а глубина (…). Это область открытий, откровений, предузнаний, сообщений…
М. Бахтин
Философские мифы Платона показывают, как старая истина и новое понимание могут быть соединены воедино.
Г.-Г. Гадамер
Мифы, говорил Саллюстий, повествуют о том, «чего никогда не было, но всегда есть»[1]. Миф – мудрость, выраженная языком символов, и уже поэтому исключает какую-либо однозначную трактовку. Он, как оракул в Дельфах, не изъясняет, не указывает, а знаменует.
Одно из знамений мифа об Орфее и Эвридике связано с космогонией, ибо архетипическим ядром мифа всегда оказывается некое космогоническое событие. «Космогония, – писал М. Элиаде, – является образцовой моделью всякого созидания»[2]. Хтоническая мифология греков подтверждает справедливость этого замечания, она начинается с космогонии, где происхождение богов и космоса связано с появлением четырех первостихий: Хаоса, Геи, Эроса и Тартара. Все они имеют прямое отношение к топике мифа об Орфее и Эвридике. Но еще важнее для понимания этого мифа, его онтологики – мотив инцеста в происхождении мира.
Согласно «Теогонии» Гесиода, Мать-Земля рождает из самой себя Небо. От инцестуозного брака Урана и Геи рождаются титаны и боги. Подобный брак прослеживается и на позднейшей ступени развития греческой мифологии: Зевс становится мужем своей сестры Геры. Это приводит к онтологической нестабильности, но борьба Зевса с титанами заканчивается образованием антихтонического олимпийского порядка. Рождение Афины из головы Зевса символизирует окончательное отделение небесного начала от хтонического. В результате, космогонический процесс воспринимается как эволюция нарастающей дехтонизации. В итоге эволюции хтоническое начало нейтрализуется, изолируется и, наконец, заключается в Тартар как антиструктурное и деструктивное. Оно отделяется от верховного божества олимпийской религии, трактуется как темное и опасное, при этом маркируется как женское, поскольку олимпийский пантеон ярко выраженного патрифокального характера.
В свете такого космогонического процесса миф об Орфее и Эвридике символизирует попытку прервать этот процесс, иными словами, задержать дехтонизацию. Ради ретардации Орфей и спускается в Аид. При этом на хтоническую природу Эвридики, – в данном случае, благоприобретенную, – указывает змеиный укус, ибо мифологический змей связан с «нижним миром», с хаосом, противополагающим себя космическому порядку[3]. Сексуальное преследование Эвридики, когда она и была ужалена змеей, также коннотируется с хтонизмом. Об этом свидетельствует имя преследователя – Аристей. Он манифестировал «широко распространенное и по отдельным местностям разноокрашенное олицетворение плодоносящей силы подземного (как это явствует из эвфемистического имени) Пра-Диониса»[4]. Будучи ипостасью Аида, Аристей пытался овладеть супругой Орфея. М. Детьен на основе ассоциаций, которые вызывали у древних народов пчелы (ассоциаций сексуальной чистоты и невинности), отметил связь между виновностью Аристея в преследовании Эвридики и потерю им своих пчел[5]. В результате можно сделать вывод, что возлюбленная Орфея погибла в «медовый месяц».
Таким образом, случись возвращение Эвридики, это означало бы деструктуризацию космоса. Но в период утверждения олимпийского миропорядка попытка Орфея обречена на неудачу. Гея, которая своими чудовищными порождениями, – Горгонами, Тифоном, титанами, – сопротивлялась олимпийскому муженачалию и стала Матерью-Смертью, уже не может вступить в очередной инцестуозный брак с Ураном, а это означает, что инцестуозные отношения, подобные тем, которые ранее были присущи Земле и Небу, невозможны между Орфеем, чье имя по одной из версий означает «исцеляющий светом»[6], и Эвридикой, ставшей хтонической, то есть присвоенной Матерью-Смертью… – и это несмотря на всю силу Эроса.
В русле космогонической драмы миф об Орфее и Эвридике приобретает еще один смысл. Обычно акцентируют внимание на самоотверженности Орфея, не побоявшегося спуститься в Аид. Но если вспомнить, что Медуза была некогда красавицей, а в крылатое чудовище, со змеями вместо волос, она обращена через хтонизацию[7], или перемещение из мира живых в мир мертвых, то запрет Орфею оборачиваться предстанет как желание Аида предупредить гибельный для поэта поворот, ибо увидеть мертвое лицо Эвридики[8] – то же самое, что встретить взгляд Горгоны-Медузы[9]; ср.: «Усопших образ тем страшней, Чем в жизни был милей для нас…» – Ф. Тютчев). Возможно, нечто подобное имел в виду «последний писатель античности» Боэций, когда, вспоминая в трактате «Утешение философией» об Орфее, наставлял:
Страстно хотите, чтоб разум
К свету вас вывел, но будет
Мраком погублен, кто взглянет
В бездны его, и утратит
Высшее счастье навеки
[10].
Следовательно, исчезновение Эвридики могло быть вызвано ее стремлением спасти Орфея[11]. Недаром она соотносится с Вечно-Женственным в природе, а природа (Земля) амбивалентна: она и спасительна, и чревата неотвратимой смертью. Иначе говоря, в Эвридике угадывается не только пассивное, страдательное, но и активное начало. Так, в «Повести о Платоне» П. Акройда, известного писателя современной Англии, приводится незамысловатое соображение, что Эвридика нарочно окликнула Орфея, чтобы он обернулся и поглядел на нее, ибо она состарилась, и ей не верилось, что он сможет любить ее[12]. Несоизмеримо сложнее природа инициативного начала в лирической героине М. Цветаевой, в стихотворении «Эвридика – Орфею» (1923).
Но смысл цветаевских стихов определяется не столько мифологическим планом, сколько психологическими особенностями личности Цветаевой и ее экзистенциальным самоопределением, самосознанием поэта, в котором интенции духа сильнее женской страсти. В результате возникает мотив Отказа:
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер
[13]В 1926 г. Цветаева писала Б. Пастернаку: «Я бы Орфею сумела внушить: не оглядывайся! Оборот Орфея – дело рук Эвридики. («Рук» – через весь коридор Аида!) Оборот Орфея – либо слепость ее любви, невладение ею (скорей! скорей!) либо… приказ обернуться и потерять. Все, что в тебе еще любила последняя память, тень тела, какой-то мысок сердца, еще не тронутый ядом бессмертия.
С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть»
[14].
Эти стихи Цветаевой – о себе, как поэте, с его предпочтением «безмерности в мире мер», с предпочтением духовного бессмертия – смертному, «душевному». Для Цветаевой – Эвридики призыв Орфея – очарование, свойственное чувственно-земному миру. Но Эвридика, временно обольстившись очарованием, остается с неизменной сущностью, если это даже сама смерть. И. Бродский в эссе «Девяносто лет спустя» заметил: «Орфея и Эвридику, по-видимому, притягивают противоположно направленные силы: его – к жизни, ее – к смерти. То есть на него претендует конечное, на нее – бесконечное»