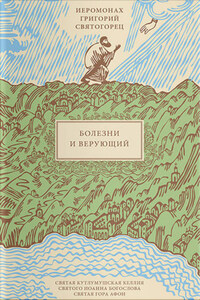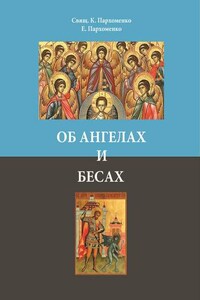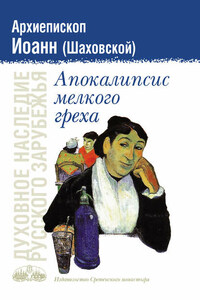Было мне лет пять от роду, не больше. Друзья, что постарше, спросили очень серьезно:
«Хочешь пройти сквозь стену?»
«Конечно же, кто этого не хочет?»
Тогда мне, маленькому дураку, завязали глаза платком, вымазали лицо навозом (сказали, что это волшебная мазь), прошептали что-то на тарабарском языке, раскрутили как следует и сказали:
«Шагай вперед!»
Я поверил, шагнул, сильно ударился лбом о бревна, набил себе приличную шишку.
Наградой мне был всеобщий хохот, а еще наука на всю оставшуюся жизнь: никогда не пробуй пройти сквозь стену, особенно вслепую и по совету других.
Но я скоро забыл этот урок и до сего дня пытаюсь пробить стену одиночества, отчужденности, непонимания. Все мои попытки обычно заканчиваются так же, как в детстве, но я упрямо шагаю вперед и бьюсь головой в надежде, что бревна когда-то расступятся, и я увижу наконец то, что по ту сторону.
Зачем?
Чтобы попытаться понять, начнем сначала…
Миг рождения я, конечно, не помню, зато ясно вижу высокий, выкрашенный голубоватой известью потолок, по которому переливаются теплым светом солнечные зайчики; и белые прозрачные занавески на окнах, летящие, словно крылья ангела.
Птицы где-то близко заливаются такими переливами, какие, наверное, бывают только в раю. А еще лают собаки, мычат коровы, гудят пчелы и шмели, тревожно трубят гуси, и оглашают окрестности своими воплями деревенские петухи.
Каждый звук запечатлевается ярко и выпукло, чтобы жить во мне всю оставшуюся жизнь.
Но это еще не все: за перегородкой у русской печи гремит чугунками и ухватом бабушка, что-то напевая себе под нос. Она печет хлеб, и запах от него разносится по всей деревне. Это – первый запах, который я помню…
Время от времени надо мной нависают огромные, как мне кажется, и безобразные лица взрослых людей. Взгляд мой обострен до крайности: я вижу каждый изъян на их коже – как через увеличительное стекло. Взрослые ведут себя весьма странно, они строят рожицы, улюлюкают, произносят какие-то глупости, сами же над ними смеются и пытаются своими прокуренными шершавыми пальцами прикоснуться к моему нежному и чувствительному носу.
Мне противно и страшно, я ору во всю свою младенческую мощь. Тогда меня берут на руки и трясут так, что весь мир начинает прыгать и рассыпаться на части, отчего я, наверное, не засыпаю, а теряю сознание.
Сколько мне было тогда: несколько дней или месяцев?
* * *
Из своего младенчества я не помню никого персонально: ни мать, ни отца, ни старшего брата, ни бабушку. Помню только себя, свои ощущения и переживания, которые почти всегда были неприятными и болезненными.
Казалось, будто меня вынули из теплого и укромного места и оставили там, где всегда холодная и сырая неприютность.
Эти чувства мало изменились с тех пор. Даже в самые яркие минуты радости и счастья меня никогда не покидает чувство тревоги и тоски, рвущей сердце на части.
Я почему-то всегда знал и знаю, что все хорошее в этой жизни непрочно и скоротечно, что за светлыми вспышками обязательно наступают бесконечные черные дни. Я и теперь убежден, что жизнь – не подарок, а наказание за что-то, чего я не в силах узнать; а земля – это как наша Сибирь, куда ссылали каторжников, – красиво, но холодно и зверски тяжело.
И сколько ни заливай тоску вином, сколько ни удобряй свое житие разными удовольствиями, – похмелье наступает неизбежно, расплата – неминуема…
* * *
А еще я помню свой первый полет или, точнее сказать, первое падение.
Наверное, уже прошло довольно много времени с моего появления на земле. Я слегка подрос и мог свободно стоять в своей кроватке. Кроватка была сварена из железных прутьев и поставлена на полукруглые дуги, чтобы при моем ночном пробуждении мама могла укачивать меня прямо с постели.
Я беззаботно раскачивался в своей качалке, крепко держась за ее железные края. Мне было легко и весело, потому что маленькое сердце еще не познало житейской тяжести, а ум был совершенно чист от мрачных мыслей.
Разноцветный ковер, лежавший на полу, то приближался ко мне, то удалялся, пока вдруг стремительно не бросился навстречу…
Говорят, я тогда сильно ударился головой, так что моя бабка Иустина впоследствии всегда утверждала:
«Ты странный, потому что головой стукнутый».
Может быть, в этом все и дело?..
* * *
Я вышел из дома, протопал через двор и смело направился на отцовскую пасеку. Это было для меня первым большим путешествием, потому как я только что выучился ходить.
Наш маленький дом еще казался мне высоченным замком, узкий дворик, по которому важно расхаживали куры и гуси, – целой сказочной страной, а сама пасека – непроходимыми джунглями, где торжественно устремлялись вверх гигантские заросли малины и смородины. Мир был ласковым, теплым, добрым и, конечно, одушевленным. От переполнявшей меня радости я что-то распевал во весь голос.
До первой пчелы.
Мне, конечно, страшно захотелось поймать это маленькое жужжащее и летающее существо. Я схватил одну пчелу и тут же огласил всю округу своим нечеловеческим воплем.
Я стоял среди ульев и размахивал от страха руками. Злобные насекомые атаковали меня яростно и безжалостно и, наверное, зажалили бы до смерти, поскольку у меня не хватало еще разума убежать.
Меня спас двоюродный брат отца, который в то лето помогал пристраивать к дому крыльцо. Через пару десятков лет он, напившись до потери памяти, замерзнет где-то неподалеку от этого места.
А тогда он стал моим спасителем, и я до сих пор благодарен ему…
* * *
Еще я помню, как полетел Гагарин.
Мне было чуть больше года. Напротив нашей деревни, по тому берегу реки, тогда тянули железную дорогу. Вокруг были горы и скалы, так что колею приходилось пробивать довольно сильными направленными взрывами. Чтобы не выбило шальным осколком оконные стекла или, еще хуже, не пришибло бы случайно кого-нибудь, – накануне взрывных работ в домах наглухо закрывались ставни, и всех жителей нашей деревни вывозили подальше в безопасное место. Сначала объявляли готовность по местному радио. Потом приезжал старый грузовик с дощатым кузовом и увозил нас в место, называемое заветерьем[1], куда камни долететь точно не могли.
Самого взрыва я не боялся, поскольку почти не слышал его. Но вся подготовка к нему, эвакуация, ожидание отчего-то вызывали во мне панический страх.
Что было тогда в моей маленькой голове?
В тот день, когда Левитан угрожающим своим баритоном возгласил: «Внимание, внимание!..» – я подумал, что будет очередной взрыв. Как обычно схватил свое пальтишко, стал требовать от родителей, чтобы меня поскорее переодели, для того чтобы ехать в укрытие. Но взрослые отчего-то меня игнорировали; они неотрывно и напряженно слушали голос диктора. Я заревел во весь голос от обиды и страха, а все, кто находились в комнате, вдруг закричали громко и радостно, бросились обниматься и целоваться. Я ничего не понимал и плакал еще горше, но утешить меня было некому. Во всей вселенной в этот час никому не было дела до маленького человечка, плачущего на полу в глухой сибирской деревне, потому что мир сошел с ума от счастья. Человек вывалился из ограниченной земной утробы и, казалось, родился в бесконечность.