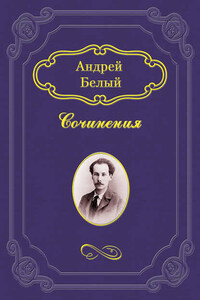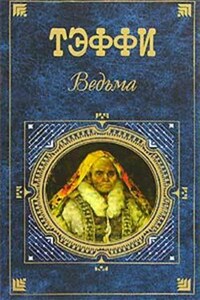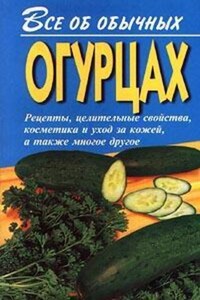Стояла душная страда. Мостовая ослепительно сверкала.
Трещали извозчики, подставляя жаркому солнцу истертые, синие спины.
Дворники поднимали прах столбом, не смущаясь гримасами прохожих, гогоча коричнево-пыльными лицами.
На тротуарах бежали истощенные жаром разночинцы и подозрительные мещане.
Все были бледны, и надо всеми нависал свод голубой, серо-синий, то серый, то черный, полный музыкальной скуки, вечной скуки, с солнцем-глазом посреди.
Оттуда лились потоки металлической раскаленности.
Всякий бежал неизвестно куда и зачем, боясь смотреть в глаза правде.
Поэт писал стихотворение о любви, но затруднялся в выборе рифм, но посадил чернильную кляксу, но, обратив очи к окну, испугался небесной скуки.
Ему улыбался свод серо-синий с солнцем-глазом посреди.
Двое спорили за чашкой чаю о людях больших и малых. Их надтреснутые голоса охрипли от спора.
Один сидел, облокотившись на стол. Он поднял глаза к окну. Увидел. Оборвал все нити разговора. Поймал улыбку вечной скуки.
Другой наклонил к нему свое подслеповатое лицо, изрытое оспой, и, обрызгивая слюной противника, докрикивал свое возражение.
Но тот не пожелал обтереть лицо свое платком; он удалился в глубокое, окунулся в бездонное.
А торжествующий противник откинулся на спинку стула, глядя на молчащего из-под золотых очков добрыми, глупыми глазами.
Он ничего не знал о разоблачении последних покровов.
А на улицах, где было душно и ослепительно бело, проехали поливальщики в синих куртках.
Они сидели на бочках, а из-под бочек лилась вода.
Дома гора горой топорщились и чванились, словно откормленные свиньи.
Робкому пешеходу они то подмигивали бесчисленными окнами, то подставляли ему в знак презрения свою глухую стену, то насмехались над заветными мыслями его, выпуская столбы дыма.
В те дни и часы в присутственных местах составлялись бумаги и отношения, а петух водил кур по мощеному дворику.
Были на дворике и две серые цесарки.
Талантливый художник на большом полотне изобразил «чудо», а в мясной лавке висело двадцать ободранных туш.
И все это знали, и все это скрывали, боясь обратить глаза свои к скуке.
А она стояла у каждого за плечами невидимым, туманным очертанием.
Хотя поливальщики утешали всех и каждого, разводя грязь, а на бульваре дети катали обручи.
Хотя смеялся всем в глаза свод голубой, свод серо-синий, свод небесный и страшный с солнцем-глазом посреди.
Оттуда неслись унылые и суровые песни Вечности великой. Вечности царящей.
И эти песни были как гаммы. Гаммы из невидимого мира. Вечно те же и те же. Едва оканчивались, как ужо начинались.
Едва успокаивали, – и уж раздражали.
Вечно те же и те же, без начала и конца.
День кончался. На Пречистенском бульваре играла военная музыка, неизвестно зачем, и на бульвар пришли многие обитатели домов и подвалов, неизвестно откуда. Ходили взад и вперед по бульвару. Стояли перед музыкой, тесня и толкая друг друга.
Отпускали шуточки, наступали медвежьими лапами на платье дам; а человек с палочкой все махал и махал ею. Трубачи, насупив брови, выводили: «Смейся, паяц, над любовью разбитой, смейся, что жизнь отравлена навсегда».
Зелено-бледный горбач с подвязанной щекой гулял на музыке, сопровождаемый малокровной супругой и колченогим сынишкой.
На нем было желтое пальто, огненные перчатки и громадный цилиндр. Это был врач городской больницы.
Еще вчера он отправил в сумасшедший дом одного чахоточного, который в больнице внезапно открыл перед всеми бездну.
Сумасшедший тихо шептал при этом: «Я знаю тебя, Вечность!»
Все ужаснулись, услышав о скрываемом, призвали горбатого врача и отправили смельчака куда не следовало.
Это было вчера, а сегодня горбатый врач гулял на музыке с малокровной супругой и колченогим сынишкой…
В модном магазине работал «лифт». Человек, управлявший занятной машиной, с остервенением летал вверх и вниз вдоль четырех этажей.
Везде стояли толпы дам и мужчин, врывавшиеся в вагончик, давя и ругая друг друга.
Хотя тут же были устроены лестницы.
И над этой толкотней величаво и таинственно от времени до времени возглашалось деревянным голосом: «Счет».
У окон книжного магазина стоял красивый юноша в поношенной тужурке, с непомерно грязной шеей и черными ногтями.
Он сентиментально смотрел на экземпляр немецкого перевода сочинений Максима Горького, пощипывая подбородок.
Перед книжным магазином стояла пара рысаков. На козлах сидел потный кучер с величавым лицом, черными усами и нависшими бровями.
Это был как бы второй Ницше.
Из магазина выскочила толстая свинья с пятачковым носом и в изящном пальто.
Она хрюкнула, увидев хорошенькую даму, и лениво вскочила в экипаж.
Ницше тронул поводья, и свинья, везомая рысаками, отирала пот, выступивший на лбу.
Студент постоял перед окном книжного магазина и пошел своей дорогой, стараясь держать себя независимо.
Много еще ужасов бывало…
Темнело. На востоке была синяя дымка, грустно туманная и вечно скучная, а с бульвара неслись звуки оркестра.
Каждый точно сбросил с плеч свою скуку, а мальчишки и девчонки бегали по улицам с букетиками незабудок.
В тот час по всем направлениям можно было встретить угрюмых самокатчиков. В поте лица они работали ногами и сгибали спины; они угрожали звонками и таращили глаза, перегоняя друг друга.
В тот час философ возвращался домой своей деланной походкой, неся под мышкой Критику чистого разума.
Ему встретился на извозчике господин в котелке с рыжими отпрысками бороды.
Он сосал набалдашник своей трости, напевая веселую шансонетку.
Обменялись поклонами. Философ с деланной небрежностью приложил руку к фураялке, а сидящий на извозчике раздвинул рот, чтобы обнаружить свои гнилые зубы, и приветственно повращал кистью руки.