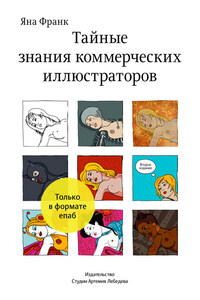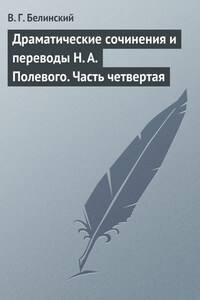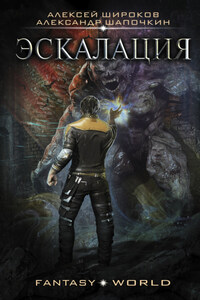Недавно завершившийся XX век и начавшийся XXI – хороший повод для подведения любопытных промежуточных итогов и обоснования ряда теорий, касающихся различных аспектов истории европейского искусства. Постоянная трансформация художественной картины мира (чем-то отдаленно напоминающей вязкое, аморфное время на знаменитом полотне Сальвадора Дали, – настолько она изменчива и склонна к разным девиациям, – все более подверженной внешнему влиянию, благодаря которому происходит ее непрестанное обновление «внутри»), варьирование художественных языковых систем, их взаимодействие и неизбежное (вслед за общим усилением мультикультурных процессов) слияние, объединение, «микширование» подробно анализируются исследователями; результаты таких исследований дают возможность делать те или иные – часто любопытные, необычные, даже захватывающие – выводы, позволяющие представить возможные пути дальнейшего движения искусства[1].
Текст настоящей работы возник из аналогичного желания: взглянуть на исторические процессы взаимодействия различных искусств (литературу мы здесь и далее также будем приравнивать к искусствам. – М. П.), проанализировать ряд особенностей современного художественного продуцирования, окинуть взглядом историю возникновения, развития и причины нынешней актуальности симультанного способа представления объектов в произведении, когда эти объекты (бывшие, возможно, завершенными и самостоятельными в рамках того вида искусства, к которому они изначально относились) принимают на себя роль неких промежуточных «модулей», фрагментов, становятся «кирпичиками» для нового произведения, создаваемого художником.
На протяжении двадцатого столетия деятели искусства, поэты и писатели регулярно ставили эксперименты по созданию необычных художественных форм-образований, «сводя» воедино те системы и стили, которые ранее считались самостоятельными и исключали саму возможность подобного использования. Цель этих экспериментов была общей: создать некое «универсальное» произведение, наиболее адекватно и полно передающее все вариации и оттенки современной картины мироздания.
Без сомнения, поиски «универсального» арт-объекта начались задолго до наступления двадцатого века. Каждая художественная эпоха стремилась к такому идеалу. И очень часто в этих поисках «универсальное» отождествлялось (или как минимум связывалось) с «симультанными» приемами.
Вместе с тем в последние сто – сто пятьдесят лет появились также определенные новые условия, благодаря которым синтетические, симультанные художественные формы принимают ныне размеры гиперобъектов, являясь продуктами т. н. «мультикультур» – гигантских, пестрых, разнородных социокультурных образований, возникновению которых способствуют самые разные факторы. Характерным примером складывания таких «мультикультур», свидетельствующим о прозрачности границ между государствами в эпоху постоянных и не вызывающих никакого труда перемещений по миру, когда до любой точки Земли можно добраться за пару дней, а мобильные средства связи дают возможность общаться с собеседником на другом конце планеты, становится стремление Востока и Запада сблизиться, их обоюдный интерес к изучению друг друга, заимствованию религиозных, философских и художественных истин[2].
Европейские мастера еще на заре самой истории Европы создавали образцы «симультанных» произведений, перенимая определенные выразительные художественные приемы, способы расположения объектов в пространстве произведения у своих коллег, ранее творивших в античных Греции и Риме и даже еще прежде – в Древнем Египте и Междуречье. На протяжении последних пяти тысяч лет в странах, располагавшихся на побережье Средиземного моря и на востоке от него, менялись цивилизации, приходили и вновь уходили в небытие народы, возникали и гибли мощные государства, стиралась память о правителях и князьях-завоевателях, разрушались памятники архитектуры, заносились песком целые города, упразднялись традиции, однако неизменным оставалось, пожалуй, то немногое, что можно назвать набором культурных «кодов», использовавшихся художниками разных поколений; эти культурные коды переходили из одного региона в другой, трансформировались и использовались вновь.
Цель такого перенесения очевидна: это стремление человека создающего, homo faber, разомкнуть тесные рамки окружающего мира и приблизиться посредством своего искусства к Абсолюту, Творцу, Неведомому – той трансцендентной сфере, которая ощущается и переживается (в соперничестве или в состоянии гармонии) художником более явно и остро, чем любым «простым смертным», лишенным восторга созидания. Искусство вечно, оно запечатлевает Вечность, и стремится соединиться с ней, в ней раствориться. Эта мысль управляет художником давно; есть некоторые свидетельства в пользу того, что она руководит им и сегодня.
Путь к Вечному у каждого мастера, понятно, свой собственный. Кто-то живет в эпоху, когда над процессом творчества довлеет строгий канон; кому-то выпадает время, почти свободное от каких бы то ни было пределов и ограничений; кто-то сам становится первопроходцем, законодателем художественной свободы. Сегодня мы имеем благоприятную возможность сравнивать пути в искусстве, персональные художественные стили, результаты экспериментирования; анализировать, насколько тот или иной мастер следовал традиции, в какой степени он способствовал возникновению новой художественной манеры, превратившейся затем в целое течение или, наоборот, так и не вышедшей за рамки индивидуального творчества. И находя нечто общее, нити, связывающие эпохи в истории искусства, мы обретаем дополнительную почву для исследования.
«Симультанное» продуцирование, основанное на совмещении художником в создаваемом объекте различных «модулей», фрагментов, частей выразительных систем – как раз такое связующее звено между художественными эпохами и периодами. Истоки симультанного принципа расположения объектов в живописном произведении (обозначим подобное расположение как «линейное») мы находим еще в XV в. до н. э. в том же Древнем Египте; затем этот принцип обнаруживается в барельефах Ассирии и Персии; его подхватывают греческие мастера; усвоенный римлянами и впитавший христианские мотивы, он позднее находит повсеместное выражение в искусстве раннего средневековья и последующих эпох. Западноевропейский Ренессанс освобождает художников от большинства существовавших пределов и ограничений; начинается новый этап экспериментирования, направленного на поиск