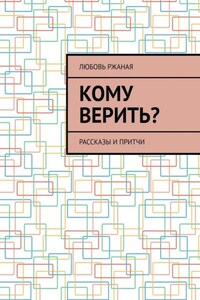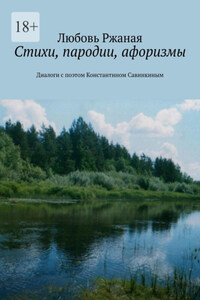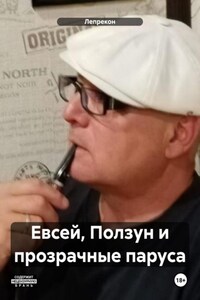Зима, ночной поезд, полупустой сидячий вагон. Езды мне всего шесть часов, можно и посидеть, сэкономить на билете. Была со мной сумка, в ней журнал давнишний да пакет с двумя пирожками, бутылочка воды. Дорога привычная, к сестре и обратно. Пирожков на дорогу мне дала, вот и молодец. Я тоже ей немного всего тащу, по доходам своим, а сама она не ездит ко мне – экономна, вся в делах. Что дергает меня в дорогу, не знаю – люблю ездить, в окно смотреть. Правда, ночью и не видать ничего, только свой нос да глаз в отражении на стекле. И на это надо посмотреть порой: вдруг чего нового в себе заметишь.
Никогда не мечтаю я в дороге с кем-нибудь разговориться. Даже запрещаю себе. Силы экономлю. Слушать тоже не любительница: у всех свое. Не такое, как мое – мне не понять, а такое – тоски не унять. И собралась я ехать молча, дремать.
Место рядом с моим было занято. Народу немного, а все уже обжито. Кто сидит один, тот уже на двух креслах разлегся – ночь, спит или дремлет, съежившись, ноги время от времени подбирая: кресла-то узкие.
Пришлось сесть строго по билету, рядом со старухой в длинном и черном платье – видно, монашенкой. Приглядевшись, увидела я, что старит ее одеяние и платок, а лицом-то она моложе меня, лет примерно сорока пяти. Дремлет она, а сама в руках четки перебирает. На всякий случай я с ней поздоровалась – она кивнула, не открывая глаз.
Поезд тронулся, оставляя позади ночные огоньки провинциального городка. Пирожков еще не хотелось. Да и не могу я есть одна среди народа. Откроет она глаза – поделюсь.
Перед нами полусидел, полулежал мужчина лет тридцати с небольшим, провинциального вида, как и большинство вагонной публики. Над головой его на багажной полке лежал рюкзак, чем-то набитый. Может, пустыми сумками, если он за товаром на столичные рынки едет, чтоб заработать копеечку на перепродаже. Мигнули лампочки, и вагон погрузился в полумрак – проводница позаботилась о спящих. Не почитаешь теперь. Ладно, так посижу, в воспоминаниях покопаюсь. Это мое любимое дело.
Тут вдруг соседка произнесла, словно слушала мои бесхитростные раздумья:
– Не печальтесь. Все это пройдет, все временное.
Наверное, я вздыхала? Начинать разговор не хотелось. Может, и усну сидя. Сумка моя тощая на коленях лежит, никому она не нужна.
– Прохладно, зря вы разделись, – продолжила спутница. – Подать вам ваше пальто?
Не дожидаясь ответа, она сняла с крючка мое рыжее драповое пальто и подала мне. Что ж, спасибо за заботу. Я укуталась и поблагодарила. Пришлось спросить:
– А вы не замерзли у окна? А то давайте поменяемся местами. На ней-то вообще тонкий черный балахон был, типа рясы или плаща.
– Нет, у меня поддёвочка внутри, фуфаечка на овчине, – и она слабо улыбнулась. Пальцы ее между тем так и перебирали четки. На откидном столике, на газетке, лежал перед нею маленький молитвенник.
– Веруете? – вдруг спросила она, повернув ко мне лицо, и умные глаза цепко выхватили во мне немой ответ. На всякий случай я еще и кивнула. Но добавила:
– В Бога верую, а по церквям редко хожу. Не люблю попов.
– А их и не надо любить, Бога надо любить. А Бог-то в церкви. Там он слышит вас, а не дома, возле холодильника или кровати.
Стало беспокойно. Иконка у меня и правда над кроватью висит.
– Вы монахиня? – спросила я, стараясь выправить русло разговора, которого, как теперь стало ясно, не миновать. Ладно, в беседах путь короче.
– Послушница.
И она назвала монастырь. Я не слышала о таком. Монастырские дела меня мало когда интересовали. Ну, живут монахи, молятся, от мира отгородились. Телевизор не смотрят – грех. Постятся чуть не целый год, спят на деревянных лавках.
– И как там живется, в монастыре? Почему вы стали послушницей? И долго ли вам до монашества?
– Уже пять лет в послушании. Монахиней стану, когда будет на то Божья воля.
– Чем вы питаетесь, на что существуете? – задала я совершенно праздный вопрос, поневоле впадая в дрему в сонном вагоне.
– Когда пост – постимся. А так у нас все есть. Там деревня, с избами. Вот я тоже живу в избе.
Странно, а я думала, они живут в кельях.
– Иные и живут. А иные на хозяйстве. Это наш труд, послушание. Да молитвы, службы.
– Вы ведь жили в миру, – поинтересовалась я, – что вас в монастырь направило?
Женщина задумалась. Видно, спрашивала себя, говорить или не говорить.
– Господь Бог направил. Спасаться велел.
– От чего спасаться?
– От Мамоны. Вы ведь, кажется, грамотный человек – знаете, что такое Мамона.
– Смутно. Редкое слово.
– Мамона – искуситель, богатство, жадность. Это страшное дело, когда Мамона одолеет.
– А вы были богаты? – удивилась я. Не похожа она: простая с виду. Мысль мелькнула: олигархи наши вот не спасаются в монастырях.
– А вы не думайте об олигархах, – спокойно ответила послушница. Действительно, читает мои мысли. – Я обыкновенная была. Квартиру имела, дачу. Все детям оставила и ушла от них.
Бедная! Детки доведут до монастыря, подумала я и загрустила.
– Дети хорошие, но слабые, хотя и взрослые. Ушла – они сильнее, самостоятельнее стали, – продолжила женщина.
Мудро. Может, и мне?
– Нет, вам-то монастырь не подходит, – она снова ошарашила меня, читая мысли.
– Почему же?
– Вы еще можете в миру. А как совсем ослабеете духом, так и придете. Когда о себе забудете.
Господи помилуй. Этого не хватало! Чего я боялась, так это оказаться в дряхлой старости в приюте или монастыре.
– А М амона? – промямлила я.
– Мамона и вас одолевает.
Я не сомневалась. У меня много врагов, бесов, грешна я.
– Одолевает, истину глаголете.
Тут я вспомнила про пирожки и полезла в сумку. Вынула пакет и стала его разворачивать. Запахло рисом и яйцом.
– Угощайтесь, пожалуйста.
– Да ведь пост. Не могу. А вы кушайте, если не постуете.
Но и я расхотела пирожков и убрала пакет. Мы помолчали. Нужно было если сказать что-то, то значительное и умное. Или спросить что-то важное.
– Вы до конца едете, до Москвы?
– О, еще дальше. Потом в Тульскую область, в деревню. Там родня у меня. Проведаю и вернусь.
Вот бедняга. Ей еще далеко добираться, к ночи приедет в глухомань…
– Что же вас заставляет так жить? Ездить, мучиться…
– Да разве это мучение? Это спасение!
– От чего спасение?
– От Мамоны. Отвезу брату денежек, могилки отца-матери проведаю, душу успокою. Вы ведь тоже от беспокойной души мотаетесь.
– Да, к сестре езжу…
– Не берите у нее много. А возите много. Это все лишнее вам. Мамона плачет, когда доброту чью-то видит. Не живите с мамоной.
Нужно было готовиться к выходу. Тут вдруг мужик на переднем сиденье сел и повернулся к нам.
– Мамаша, дайте хоть мне пирожок. Задолбали вы меня, тетки, разговорами. Не уснёшь. Всю ночь – мамона, мамона… А моя деревня прозывается Мамоново. Что ж мне теперь, бежать из нее?