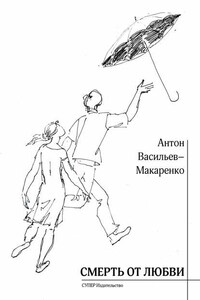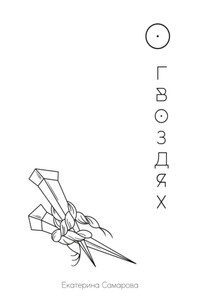Про обложку
\Авторское предисловие\
Был у нас в кино такой замечательный актер, которого очень любил народ, – Пётр Алейников. С возрастом перестал он сниматься и стал ездить по разным площадкам с выступлениями перед зрителями со сцены, читал стихи. Приезжает, например, в какой-нибудь дом культуры в посёлок городского типа, гримируется, пьёт чай, а его устроители вечера спрашивают: «А что читать будем, Пётр Марты́нович?» – «А какой у нас нынче праздник?» – отвечает вопросом Алейников. – «Восьмое марта», – говорят. – «А какая у нас аудитория?» – «Швейная фабрика, швеи-мотористки, незамужние в основном». – «Ну, тогда, – говорит, немного подумав, артист, – поэму Твардовского «Ленин и печник»». В другой раз и в другом месте вдругорядь: «Какое событие?» – «День рыбака!» – «А где мы?» – «Дворец культуры торгового флота!» – «Ну, тогда, наверное, прочитаем им «Ленин и печник»»… И так-то вот почти всегда на том и договаривались.
Это я к чему? За двадцать лет моей работы во ВГИКе доводилось мне читать лекции по режиссуре, монтажу, а иногда и по драматургии – самым разным категориям учащихся. Даже абитуриентам-иностранцам, которые еще не знали языка, или студентам МАИ, которые читать не могут, только смотреть и считать. Были и операторы, и художники, и продюсеры, и сценаристы-заочники, не считая самих режиссеров. И что же? А то, что почти всем им и почти всегда я на первом же занятии, если не на втором, показывал в обязательном порядке самую любимую мною короткометражку 60-х годов, работу Михаила Кобахидзе «Зонтик». Самую универсальную для всех категорий, как лично я считаю, и жизнь это всегда подтверждала. «Какой у нас нынче контингент?» – спрашиваю я механика. «Нынче у нас художницы!» – «Тогда заряжай им «Зонтик»!»
Потом просят второй раз показать. А которые слов не понимают – так там слов и нет вовсе, как в великом немом было. Михаил Ильич Ромм, мой мастер, за это называл кино самым интернациональным из искусств. Кстати, дебютант из Грузии так и понимал одну из своих задач: восстановить достоинство кинематографа, как искусства прежде всего визуального, образного. Хотя я понимаю, что образы есть и в музыке, но изображение – всё есть образ, по определению, так же, как и сам Человек. Да дело даже не в этом, «не в гусях». Фильм Кобахидзе и мудр, и добр, и красив – это шедевр подлинного гения. И именно поэтому так горько, что несправедливо обошлись с ним, нет, не судьба, не суд Божий, а безбожные люди. И вот мне захотелось чуть-чуть \в искусстве всё на «чуть-чуть»\ восстановить историческую справедливость.
Обычно, или часто, когда делают обложку книги о кино, то иллюстрируют её кадрами из классических фильмов: обезумевший матрос с «Броненосца «Потёмкин»» или лиричный Чаплин с белой розочкой в зубах, или Софи Лорен, на худой конец… Или Самойлова, снятая через решётку в ракурсе… Я же, мы же попросили разрешения у Мастера использовать кадры его картины в живописном исполнении художника Андрея И. Ларионова. Нана Петровна Кавтарадзе попросила, та самая, что снималась у Михаила в другом его безсмертном фильме «Свадьба».
Режиссёр дал свое согласие, и вот его зонтик снова полетел над миром, а его герои снова потянулись за ним как за мечтой, или синей птицей, или самим счастьем, которое, увы, так неуловимо. Что и объединяет, на мой взгляд, все пять сюжетов, ужившихся под одной обложкой. Что же касается обратной стороны, то оно имеет свою драматургию. Романтический зонтик превратился в отнюдь неромантичный самолет, и третий герой нашей киноленты оказался на его фоне вдвойне обезкураженным суровостью и жестокостью этого мира. В котором, однако, вечно будут сохраняться любовь, надежда, вера. Иначе зачем писать сценарии?
Послушник Нило-Столобенского монастыря Антоний
20.09.2017
Антон С. Васильев, Марина Шептунова
Превращения третьеклассника Теряева
\сценарий художественного фильма\ 1982 г.
Над городом, на крыше старого серого семиэтажного дома росла берёза. Слабосильная, хиленькая, но росла, выживала, как могла, вцепившись тонкими корнями в лепное архитектурное излишество карниза, проникнув под листы кровельного железа. Город тянулся к мартовскому небу скатами крыш, башнями, трубами, шпилями и куполами, забелёнными поздним снегом. Ещё слабое теплом солнце смотрело сквозь облака, стремительно разносимые в стороны ветром.
– Раз, два, три, четыре, пять – всем из дома выбегать, – сказал третьеклассник Теряев, задержавшись на последних ступеньках в полумраке подъезда. – Кто не выбежит, того выберем! – и выбежал в солнечный двор.
У подъезда Теряева поджидали две дружелюбные собаки «дворянского происхождения». Теряев дал им поесть.
Собаки завтракали, но тут подошел Суровый Сосед с первого этажа со свернутыми в трубочку газетами в руках.
– Так всегда! – закричал Суровый Сосед. – Сперва всякую дрянь приваживаем, а потом лишаём болеем и удивляемся, откуда зараза! – и он уставил на Теряева свёрнутые газеты, как пистолетное дуло.
Теряев и собаки бросились врассыпную.
Молочные бутылки и баночки из-под майонеза позвякивали в сумке, когда Теряев шагал по бульвару в магазин.
Вдруг посторонний шум вмешался и нарушил мелодию теряевской стеклотары: отряд пионеров шлёпал по солнечным лужам со знаменем, горном и барабаном.
Теряев увидел восхитительную красную рамку барабана, сверкающие никелированные крепления, нежную желтоватую кожу мембраны – и окаменел. Барабанные палочки были золотистые. Они летали в воздухе легко и точно.
– Куда идешь, Теряев?
На лавочке сидел и кушал мороженое одноклассник Волков.
– В магазин, – сказал Теряев, провожая уплывающий барабан влюбленными глазами.
– Всё у тебя не как у людей, – сказал Волков.
– А что у людей? – заинтересовался Теряев, сел на лавочку и огляделся, выбивая ладонями по сумке барабанную песню.
Мимо со счастливыми улыбками шли и бежали люди и школьники.
– Весна, Теряев!
– Да, Волков, – задумчиво вздохнул Теряев. – А четверть кончается.
Волков доскреб палочкой остатки мороженого, бросил стаканчик в урну и тоже вздохнул:
– Весна, Теряев! Плачу и рыдаю.
– Это как?
– Всё радуется, оживает, всё тянется к счастью.
– Ну и что?
– Пора любви, дурень! Не видишь ты, что ли?
Теряев еще раз огляделся.
Мимо по-прежнему шли и бежали люди и школьники, но на этот раз от внимательного взгляда Теряева не укрылось, что и вправду что-то в мире стало не так спокойно. Теряев чихнул и сам себе сказал: