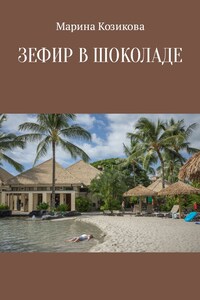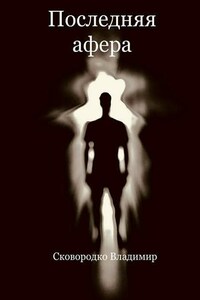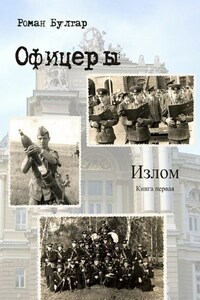Утренний бриз, наполнявший паруса бригантины, через открытый иллюминатор проникал в каюту. Мужчина в кожаной куртке с широким поясом и ботфортах до колен сидел за столом и точил шпагу, невозмутимо покуривая ароматную гавайскую сигару. Одетая в расшитое золотом сари женщина, распростершись на кровати под парчовым балдахином, плакала.
– Командор, – шептала она сквозь слезы. – Я хочу всегда быть с тобой!
– Это невозможно, – печально ответил он. – Моя жизнь полна смертельных опасностей.
– Я не страшусь разделить их с тобой!
В дверь каюты сильно постучали и кто-то прокричал:
– Командор, на горизонте шхуна! Она преследует нас!
– Это Дрейк, пират ее величества королевы Елизаветы! – в порыве отчаяния женщина заломила руки. – Он настиг меня!
– Это будет его последнее злодеяние, – пообещал командор, взяв в одну руку шпагу, в другую – длинноствольный мушкетон. Отдал распоряжение через дверь: – Команде приготовиться на абордаж!
– На абордаж!
Бригантина мгновенно наполнилась возбужденными криками и топотом ног бегущих на палубу моряков.
Красавица, побледнев, поцеловала возлюбленного, быть может, в последний раз…
Николая Зябликов, проснувшись, долго еще лежал в темноте и слушал, как за окном после короткого ночного затишья пробуждается город. Через открытую форточку свободно проникали свежий морозный воздух и звуки. Сначала зарычали автомобили, взбираясь по их крутой улице к перекрестку. Потом торопливо прошагал человек, неизвестно куда или откуда спешивший в такую рань, за ним другой, третий… И вскоре множество ног хрумкало выпавшим ночью и успевшим подмерзнуть снегом, перемалывая его в грязь.
Николай невольно вздохнул. Ему казалось невыносимо скучным совершать неизменный ежедневный круговорот жизни: вставать, умываться, завтракать и одеваться, а затем выходить из дома и брести по уличной слякоти на работу, и там маяться весь день, мысленно торопя приближение вечера. Но и долгожданный вечер, он знал, не принесет ему радости, тогда он начнет ждать ночь, когда можно будет, наконец, с облегчением лечь в кровать и забыться до утра…
Николай опять грустно вздохнул. Он понимал, что потерял интерес к жизни. Но случилось это не вчера, а несколько лет тому назад, и он смог уже привыкнуть к этому состоянию безнадежности. Однако старался не вспоминать то время, когда утро еще приносило ему радость. Это было не так просто – отречься от всего чистого и светлого, что хранила его память. И не всегда удавалось. Тогда Николай пытался схитрить, обмануть самого себя. Он переворачивал в своей памяти как можно больше страниц и заглядывал чуть ли не в начало своей жизни.
В те дни его будила мама. Тогда он спал в одной с ней комнате, но только в маленькой детской кроватке с забавным медвежонком, нарисованным на деревянной спинке. Мама склонялась над ним и, ласково поглаживая по голове, приговаривала:
– Коленька-Николенька, вставай, утро пришло, пирожки принесло!
А ему были так приятны прикосновения ее теплой мягкой руки, пахнущей почему-то молоком, но не магазинным, а деревенским, парным, что он, уже проснувшись, старательно жмурился, продляя мамины ласки. Он знал, что на завтрак его действительно ждут вкусные пирожки, еще пышущие жаром, с сочащейся из них начинкой из грушевого или яблочного варенья. И не мог понять, как это утро сумело их принести, ведь у него нет рук. Но если допустить, что руки есть, значит, имеется и рот, и почему же тогда оно, это самое утро, исправно несет вкусную сдобу ему, Коленьке, а не съедает само? Он бы ни за что не удержался и попробовал хотя бы кусочек. Но еще ни разу ему не попадался надкусанный пирожок…
Мама все-таки замечала, что Коленька притворяется, и нежно упрекала его:
– Сынок, я же опоздаю на работу, и меня накажут!
Каждое утро эта неведомая работа отнимала у него маму, и Коленька сильно невзлюбил ее. Работа представлялась ему страшным, большим и лохматым чудовищем, похожим на соседского пса Фильку. Коленьку обжигала острая жалость к маме, он протягивал к ней свои ручонки и обнимал за шею, лепеча, что когда он станет взрослым, ей не придется бояться не только своей злой работы, но даже и самого Фильки. А мама, смеясь, целовала его, и Коленьке было так хорошо, как, наверное, не бывало уже никогда в жизни. Если забыть про Ирину…
Дзи-и-инь!
Николай вздрогнул от резкого звонка будильника. Пора было вставать. Он мог бы еще понежиться в постели, но это уже не доставило бы ему удовольствия, потому что в своих воспоминаниях он дошел до Ирины, что всегда отзывалось в нем болью. И сколько он ни пытался, но миновать Ирину не мог, она служила переходным звеном между его радостными и хмурыми утрами. И, наверное, была неповинна в этом, как нельзя всерьез винить плохой сон в своем дурном настроении, но это ничего не меняло. Обычно Николай не думал о ней. Но с таким же успехом он мог пожелать забыть день своего рождения или о том, что однажды он умрет. А это было невозможно.
В соседней комнате проснулась мать. Она глухо кашляла, одеваясь, чтобы пойти на кухню и приготовить ему завтрак. Она уже давно вышла на пенсию и теперь по утрам беспокоилась, что на работу опоздает сын. Он для нее оставался все тем же Коленькой-Николенькой, которого она будила каждое утро, если он не вставал вовремя сам, поэтому Николай, отбросив одеяло, поднялся с кровати. Он опасался, что она зайдет и догадается по лицу сына о его душевном смятении, а он не сможет внятно объяснить причину своей утренней ипохондрии. И тогда мама начнет переживать, и у нее обязательно разболится голова, а он будет чувствовать себя виноватым в этом. Ему же и без того было плохо.
– Коленька, завтракать, – позвала из-за двери мать.
Николай съел на завтрак три яйца всмятку, тарелку шанежек и выпил большой стакан теплого молока. Поесть он любил. Он был выше среднего роста, полноват, даже несколько рыхловат для своих тридцати лет, но со здоровым румянцем на пухлых щеках. Мама заботливо подкладывала ему на тарелку. Она искренне верила, что хорошее пищеварение служит залогом жизненного успеха и благополучия. Аппетит Николая являлся для нее барометром его настроения, и стрелка на нем всегда должна была показывать «ясно», иначе мама начинала тревожиться. Родив сына на излете молодости, когда уже отчаялась выйти замуж, как по любви, так и по необходимости, она любила Николая, как только может любить единственного сына одинокая стареющая женщина, и не видела в нем никаких недостатков, ни телесных, ни духовных, а если порой случайно и замечала, то относила это на счет собственной мнительности. Обычно при таком воспитании, тем более без твердой мужской руки, вырастает закоренелый эгоист, если не хуже. Но Николай был ласковым и послушным сыном. Быть может, даже чуть более послушным, чем того требуется для личного счастья. Но он был добр и легко прощал маме ее слепую ревность ко всем без разбора представительницам одного с ней пола. По здравому размышлению, он понимал, что женщины заботливее, чем мама, ему не найти. А потому он и не искал. Впрочем, была, наверное, на то и другая причина, и он даже знал, какая, но ни за что бы не открыл ее маме. В свое время она тяжело пережила его студенческую влюбленность, он не хотел напоминать ей об этом ничем.