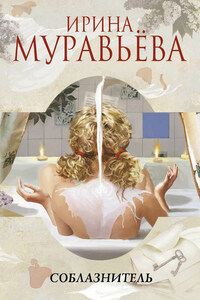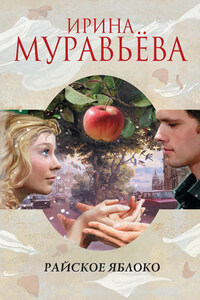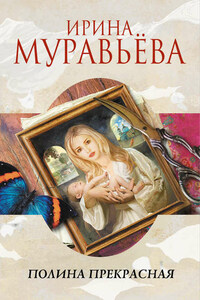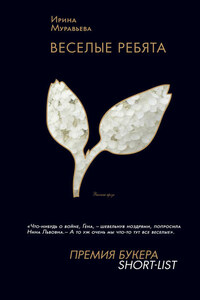Дочке было семь лет, она уже месяц ходила в ту самую школу, где Вера была восьмиклассницей, а сам он работал учителем. И жена его, женщина молодая, с холодным и одновременно затравленным лицом, каждый день приходила забирать свою дочку после уроков и ждала в вестибюле, ни с кем не разговаривая, не вступая ни в какие обсуждения, а просто сидела, отстраненная, надменная и несчастная, как будто бы знала, что ей суждено всю жизнь глотать горькие слезы стыда. А раньше, до осени этой, была и веселой и нежной, любила смеяться, а тут вдруг – как заледенела.
Первого сентября они вместе с мужем привели в школу свою румяную, в огромных бантах, девочку, а шестого сентября муж признался ей в таком, что у нее остановилось дыхание. Вокруг была жизнь, и ходили, скользя по мокрой листве, загорелые люди, кричали и пели, и пахло арбузом, последние астры цвели на газонах, но все это было как будто не с ними, как будто они уже и не имели с простой этой жизнью своей прежней связи.
Так в чем он признался? Постойте, не сразу. Конечно, на свете случается разное. И мало ли всяких страннейших признаний, и мало ли боли от этих признаний? Жена его, носящая чудесное имя Елена, за девять лет брака привыкла ко многому. Вернее сказать: он ее приучил. Он предупредил, что ей с ним будет трудно. Она не поверила, но согласилась. Пусть трудно, но только бы с ним. Она подбирала за ним его мысли, привычки и шутки, и все сохранялось внутри ее сердца, и там, в ее сердце, за все эти годы так много всего набралось, просто страшно. Коллекция целая, остров сокровищ. Она относилась к нему не как к мужу, законному спутнику и компаньону, а как к господину – слуга, как рабыня, хотя до него и до этого брака в ней не было даже следов униженья, тем более рабства. Откуда же рабство, когда она дочка отца-генерала, любимая дочка? Отец, правда, умер, но мать-то жива. А тут ее словно бы заколдовали. Ну, парень как парень, глаза голубые. И взгляд очень пристальный, в самую душу. Увидела и обмерла, заболела. Люблю, не могу без тебя, не могу. Хоть режь на кусочки, хоть жги на костре. Не хочешь жениться, я так могу жить. Но он почему-то женился, как будто и сам тосковал без семьи.
Когда после свадьбы он переехал к ним на Тверскую в прекрасную большую квартиру, где мать-генеральша только что сделала ремонт и поменяла мебель, так что теперь даже в кухне стояли обтянутые золотистой парчой стульчики, а полог у материнской кровати был просто музейным, и днем этот полог, присобранный в пухлые складки, с трудом продевали в кольцо ярче золота, – когда он переехал из своего костлявого и облупленного Нагатина в эти ослепительные покои, и матери-генеральше, и самой Елене сразу стало ясно, что ему не только наплевать на все это, но даже немного мешает. Он как-то сказал, что любовь их с Еленой зачахнет внутри золотистого плюша, поскольку любви нужен лес и дорога, а если уж золото, то натуральное: к примеру, пшеница, шумящая в поле.
Но и мать, поначалу высоко вскидывающая брови при виде его не снятых после дождя и уличной грязи башмаков, и робкая до удивления Елена, с лицом то испуганным, то восхищенным, молчали. Он часто просил ее:
– Дай мне, Елена, побыть одному. Я подумать хочу.
Она не мешала. Она подчинялась, как будто ее воспитали не в школе, не в детском саду, не в советской семье, а где-нибудь в монастыре, на отшибе, на севере Франции средневековой, откуда она вышла кроткой, но сильной, не знающей жизни и одновременно готовой к любым испытаньям судьбы.
– О чем он там думает, детка? Не знаешь? – шептала ей мать.
– Нет. Откуда я знаю?
– Одни выкрутасы, – шипела ей мать. – Наплачемся мы. Вот увидишь, наплачемся.
Его «выкрутасы» она тоже знала. Они заполняли их ночь, и Елена стремилась к тому, чтобы он был доволен ее этим белым податливым телом, и не пресыщался ее восхищеньем, и не уставал от ее поцелуев. Она уже знала, что делать, как делать, она исполняла любые желанья. Сначала с испугом, потом с исступленной и нежной готовностью. Любовь, даже рабская и бестолковая любовь молодой, очень преданной женщины к мужчине, которым она так гордится, всегда придает ее внешности блеска. Елена цвела, она переливалась, и к ней приставали другие мужчины, которые думали, что раз такая, то, может, и выгорит. Не выгорало.
Они прожили почти девять лет, оба окончили университет, родили дочку с широким лицом, как у матери, и отцовскими глазами, голубыми и выпуклыми, назвали ее Василисой в честь деда (а дед был Василием). Мать-генеральша опять побелила везде потолки и вскоре купила ковер, правда, дорого, но очень уж он подошел им по стилю.
Заканчивался еще по-летнему теплый, но уже не по-летнему темный вечер, окна были открыты, и к ним во двор стекались проститутки, потому что с самой осени тысяча девятьсот девяносто девятого года именно их двор был местом собрания этих отбившихся от честной и правильной жизни девчат. Они повисали на детских качелях, свободных, поскольку детишки все спали, сидели вокруг тускло-серой песочницы, дымя сигаретами и матерясь, а парни, плечистые, крепкие парни, всегда молчаливые и безразличные, глядели на них из машин, подзывали, и девушка шла так, как будто не знает, зачем подзывают и что теперь будет, а после садилась в машину, и юбка ее задиралась почти до трусов. Присматривали за любовным хозяйством два славных сержанта: Сережа и Саша; им все доверяли, и Саша с Сережей, устав от надзора, бывало, ласкали во время дежурства, не отлучаясь, какую-нибудь из невыбранных девушек: им тоже хотелось вниманья и неги.
Итак, заканчивался вечер, дочка спала, а они стояли на кухне в полутьме, и он, глядя на нее в упор своими выпуклыми глазами, сказал, что работать учителем в школе ему очень трудно. И все объяснил. Другая женщина, наверное, закричала бы, или ударила его по небритой щеке, или бросилась бы под золотой полог к родной своей матери, чтобы и мать вскочила, крича, проклиная и плача, но наша Елена не сделала этого. Она опустилась на стул, побледнела при этом так сильно, что и полотенце, которым они вытирали посуду, казалось румяным в сравнении с нею. Ни рук и ни ног больше не было, словно их кто-то отрезал без боли и крови.
– Не знаю, что делать, – сказал ее муж, – смотрю на нее, а все мысли такие, что… Невмоготу.
– Ты что, извращенец? – спросила она.
– Нет. Впрочем, не знаю.
– Зачем ты сказал мне об этом? За что?
– Скрывать от тебя ничего не хочу.
И он замолчал.
С этого вечера их пути разошлись: Елена отправилась в ад, в лютый холод, а он поселился повыше, в тепле. В аду пахло кислым железом и рвотой, и рядом сновали какие-то тени, наверное, подруги ее по стыду. Муж, голубоглазый, с открытой душою, жил дома и спал на одной с ней постели, но ей стало страшно ночами с ним рядом.