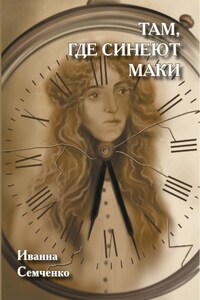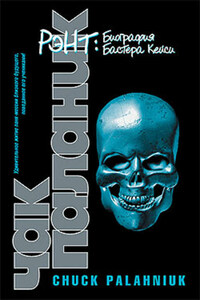Казалось, только что Максим бежал в едином порыве атаки вперёд, на позиции окопавшихся ещё с осени немцев.
Хрипел прокуренными лёгкими, широко разинутым ртом вдыхал жгучий пороховой дым и резкий морозный воздух с колючими редкими снежинками. Бросаясь в окопы, грозно ревел: «Ура!», вонзал длинный четырёхугранный штык старенькой винтовки в податливые тела врагов и, передёргивая затвор, стрелял, почти не целясь, в упор в выраставшие перед ним фигуры в серо–зелёных шинелях. Не испытывал при этом ни страха, ни жалости к погибающим от его руки, ни радости от скорой победы. А победа была близка! Краем глаза Максим замечал, что по всей линии окопов немцы удирали к деревне. От окраины то и дело выносились мотоциклы и мчались к близкому лесу. Туда же тянулись редким ручейком фигурки окопников. Однако и оттуда уже доносились разрывы гранат второго батальона, скорее, не слышались в грохоте боя, а угадывались по взмётываемым кускам снега и земли.
Огромный конопатый фриц вынырнул из–за изгиба окопа, когда винтовка Максима оказалась пустой. Немец тяжело, затравленно дышал, стискивая левой рукой за ствол, как дубинку, автомат без магазина, кинулся по узкой горловине окопа на Максима, намереваясь с размаху садануть русского по голове. Снарядить оружие ни у русского, ни у немца времени не было. Максим, хотя и мог выставить вперёд штыком пустое оружие, отбросил винтовку, и, поднырнув под руку немца, обхватил его, крепко сжав кольцо рук, резко выпрямился, нанося головой удар в переносицу врага. Немец, покачнувшись, обливаясь кровью из носа и губ, устоял и так же крепко перехватил Максима руками.
Лицо немца в потёках крови оказалось гораздо выше головы Максима, и повторить удар не получилось. Немец и русский топтались по дну окопа, напрягая все силы, чтобы свалить противника. У Максима от напряжения ныли икры ног, болью сводило спину, раненую ещё в финскую. Сапоги путались в длинных грязных лентах бинтов, оскальзывались на каких–то жестянках, противогазных коробках, на прочем хламе, скопившемся за долгое сидение в окопах. Под ногами противников чавкала подтаявшая грязь, смешанная со снегом. Максим опасался, что вот–вот потеряет равновесие и упадёт. Попытался развернуть фрица так, чтобы опереться спиной на стенку окопа. Попробовал ногами оттолкнуть немца от себя и выдернуть из–за голенища сапога трофейный кортик. Но фриц разгадал нехитрый приём и усилил обхват, стараясь повалить русского на землю. Максим надеялся, что кто–нибудь из своих заскочит сюда и поможет, но все уже ушли вперёд, оставив на потом заботу о раненых и убитых.
Гул боя затихал. Изредка слышались редкие разрывы гранат и выстрелы, то свои, пачками – винтовочные, то сухо лающие, автоматные – немецкие.
Немец, не выпуская тела Максима, внезапно присел, скользя кольцом рук вниз, рванул русского вверх, собираясь забросить его на срез окопа. Максим от неожиданности расслабил захват, но тут же ударил фрица кулаками по ушам. Левый кулак врезался в край каски, содравшей лоскут кожи, правый же попал в цель. Немец, взревев, рухнул на колени. Максим сунул руку в сапог, ухватил рукоятку кортика, лихорадочно нажимая на кнопку, чтобы отбросить ножны, но не успел. Немец выбросил вперёд руку с невесть откуда взявшимся пистолетом и выстрелил. Пуля ударила в левое плечо, отшвырнув Максима наземь. Немец пытался передёрнуть затвор умолкнувшего пистолета скользкими от крови пальцами. Максим кошкой крутнулся через раненое плечо, заматерился от нестерпимой боли и, оказавшись рядом с немцем, не разбирая куда, вонзил во врага кортик. Немец захрипел горлом, забулькал тёмной, ударившей фонтаном кровью, обмякнув, ткнулся головой в сапоги русского.
Максим попытался подняться на ноги. Не вышло. Боль вышибла сознание. Упал на убитого. Пришёл в себя от холода, быстро остудившего разгорячённое боем тело. Максим затревожился, что пролежал долго и теперь остался один в окопах. Но солнце, размытое в морозном небе, всё ещё стояло почти в зените. Максим осторожно пошевелился, неловко сел, опираясь о спину убитого немца. Боль всколыхнулась в раненом плече. Шинель, черная от сажи и окопной грязи, набухла кровью, топорщилась замёрзшим коробом. Максим посидел ещё немного, отдышался от приступов пульсирующего жжения раны, встал на колени и, кряхтя, с трудом, перевернул немца лицом к себе. Схватился здоровой рукой за рукоятку кортика, с силой потянул. Лезвие выскочило из раны неожиданно легко. Максим, охнув, неловко опрокинулся на бок. Засопел, завозился, заползал на коленях в поисках ножен. Нашел не скоро. Ножны упали в мягкую жижу, и мороз их уже успел зацементировать грязным комом. Максим кортиком выковырял ножны, сбил ледяную грязь, обтёр начерно лезвие о шинель немца, сунул кортик в сапог. «Потом. На досуге очищу. А то ржа поест», – мелькнула мысль.
Выкарабкался из окопа, опираясь о подобранную трёхлинейку, оглянулся на немца. Рана в горле фрица не кровоточила, зияла застывшей блестящей кровью, напоминая рубец, что остаётся от хлёсткого удара кнутом. Каска скатилась с рыжей головы фрица, и волосы, ещё недавно потные от борьбы, намертво примёрзли к голове. Максим вздохнул и потихонечку побрёл к деревне. Навстречу двигались санитарные сани, запряжённые полумёртвым, худющим коньком.
Хрустя полозьями, сани потянулись мимо Максима. Только сейчас он вспомнил о шапке и каске, забытых в окопе. Поморщившись от пощипывания мороза, догнал в два шага сани, плюхнулся на трухлявое сено рядом с возницей – санитаром Чеботарёвым.
Максим сблизился с Чеботарёвым, бывшим ветеринаром, может быть потому, что горе у них, было похожее.
Перед войной Максим схоронил свою двенадцатилетнюю дочь Евдокию. Болезнь скрутила девочку высокой температурой, распухло горло, дышать стало нечем ребёнку. В селе больницы нет. До Вейделевки, до райцентра председатель бричку не дал. Да оно и понятно. Уборка хлебов шла! Каждый человек и каждая лошадь на учёте. Поди проспи хоть день, в миг станешь врагом народа. А вдруг – буря?! А вдруг – гроза?! А тут и лошадь, и бричка нужна, и мамка или папка уедет. Ещё неизвестно, сколько там, в больнице, пробудут. Вдруг не на один день!
Пока спорили с председателем, Евдокия померла. Посинела, опухла лицом. Максим еле прикрыл выпученные от удушья глаза дочери, когда вернулись с женой Мариной с поля. Похоронили дочку ночью. Сколотил гроб сам Максим из почерневших досок, что заготовил давно для ремонта курятника. Да так и не сладил. То на финской был, потом и кур–то не стало. А вот, вишь ты, для чего сгодились доски потемневшие. Могилу вырыли тут же, во дворе, под старой яблоней. Закопали дочку. Как упала Марина грудью на холмик, так и пролежала всю ночь на нём. Максим сидел рядом, опершись спиной о ствол яблони, застыв от горя и безысходности. Благо, сестра Василиса хоть за мальчишками приглядывала, да утром забрала их к себе, пока родители с косовицы не вернутся.