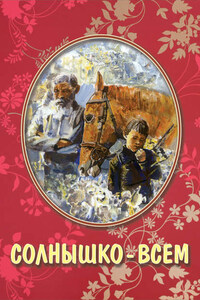И в наш дом вернулся отец.
В длинной солдатской шинели, с мешком на плече и с лёгким пустым рукавом. Он вошёл вечером, на закате, когда мы с матерью молча чистили возле пыльного солнечного окна перемёрзлую картошку. Небритый, худой, отец неловко, одной рукой обнял сунувшуюся навстречу мать, улыбнулся, а мешок медленно пополз с плеча, и вот скользнул по рукаву, качнулся на согнутом локте – и улыбка отца погасла… Но всё равно теперь мы были самыми счастливыми людьми в деревне. Ещё бы. – Жив!
И другая жизнь пошла в доме: запахло махоркой, резиновым клеем; рыбачьи иголки появились на столе, молоток, рашпиль… На следующее утро отец надел довоенный пиджак, фуфайку и ушёл на улицу. Он долго ходил возле дома, брал в руку то молоток, то клещи, то топор… Всё начинал что-то делать – стукал, тесал, но тут же бросал, брался за другое… за третье.
Я ходил за ним по пятам, молча сердился. Но потом понял: «Руку учит…»
Поспешной, взбалмошной была та памятная весна. Везде только и слышалось о скорой победе: у колодца, у перевёрнутых на берегу лодок…
А вместе с победой отчаянно наступала весна: повсюду таяло, журчало, парило. Днём и ночью летели птицы. Скворцы, привыкая, задумчиво обсиживали берёзы возле дома. Угольно-чёрные с крапленой грудью, будто обрызганной семенами укропа, отдохнув, они начинали высвистывать. Над озером радостно вскрикивали кулики, чайки, плакали чибисы…
Всё жило, торопилось.
Близилась Пасха, потом Первое мая, но главное – начало рыбного лова: внизу под горой истаивали в озере последние зеленоватые льдины, а мутная вода лезла через тын, размывала огородные грядки. В деревне поговаривали снова о рыболовецкой артели (в войну она распалась), считали людей – и сокрушённо качали головами: одни старики да бабы.
И всё же к лову готовились. Каждый – как мог.
Мы – тоже.
Я не знал, как дождаться, когда отец откроет сарайку, где всю войну хранились наши вентери, сети, перетвор…
– Сопрели, поди, – не раз говаривала мать, – крепкие-то все людям поотдавал, как уходил… говорит, может, и не потребуются больше…
Пыльные кольца вентерей мы вытаскивали на улицу, растягивали по заулку. Я выискивал дыры, помечал их щепочкой или прутиком. А потом в три руки мы с отцом их зашивали.
Дня за два до Пасхи мы осмолили лодку. Многие лодки уж были спущены, завидно качались, тёрлись смоляными боками об игольчатые развалюхи-льдины.
Но ещё больше лодок сиротливо так и валялось по-зимнему вверх дном – не конопаченные и не смолёные: хозяева их где-то всё ещё воевали.
В воскресенье, когда не надо было вставать и идти в школу, меня разбудили затемно, почти в полночь.
На столе слабо горела лампа.
– Ну как, рыбак, до чаек встаём? – спросил отец, гладя своей рукой мои волосы. – Поедешь?..
– Да, не трогай, пусть понежится, и так каждый день в школу… – вступилась мать. – Поехали.
Эти её слова словно подхлестнули меня: разве я мог отдать кому-либо свой первый выезд с отцом!
…И мать осталась стоять на холодном тёмном крыльце под звёздами, а мы по песчаному, затвердевшему от утренника пригорку тихо спустились к озеру.
В чёрной воде шевелили ресницами звёзды, по всему берегу слышался сдержанный говор, взвизгивали уключины, мокро чмокали и плескали вёсла… Все торопились отчалить.
Оттолкнулись и мы. Я сел в вёсла, отец – на корму, править. Весной наше озеро становилось проточным. И поэтому нас легко подгоняло течением.
Между нами куча вентерей громоздилась копной, из-за неё виделась мне только голова отца. Он курил, вглядываясь вперёд. Иногда, когда слышался шум переливающейся воды, начинал толкаться веслом о дно, говоря:
– Отжимайсь, отжимайсь… Слышь, бурлит, как с ножа рвёт – грива… Вылезешь на сухо…
Светало. Мы проплыли через затопленный кустарник, согнали стаю чирков и оказались на тихой, без течения, воде, окружённой кустами. Рядом никого не было, уключины повизгивали где-то далеко. Отец всё покашливал, оглядывался кругом, брал шест, мерял дно…
– Вот тут наша рыба, – сказал он. – Запоминай место. Давай-ка попробуем, пока ветра нет.
И мы сбросили в воду первый вентерь. Я с носа, а отец с кормы воткнули притычи крыльев, потом я прыгнул к вёслам, быстро стал отгребать, а отец с кормы натягивал пятник, и кольца, правильно растянутые, с шипением, пузырясь, уходили под воду. И вот над водой остались только три прямых конца притычей. – Вентерь поставлен! Мы сидим и удивляемся, как ловко, согласно всё у нас получилось… Но отец ещё сомневается. Он велит подгрести мне снова, берёт и качает каждую тычку, для верности пристукивает сверху обухом топора.
Впритык к этому вентерю мы поставили враздержку другие. Потом невдалеке облюбовали новое место…
Ещё не всходило солнце, а уж куча в лодке стала ниже бортов. Лодка полегчала, легко было и нам обоим. Отец что-то мурлыкал, напевал про себя… Я радовался, что теперь будет не тяжело грести.
А на реке шла своя жизнь. Там, за дубовыми гривами, уминая под себя воду, шумели плицами пароходы, пугливо вскрикивали гудками – и из-за голых вершин выскакивали белые шапки пара. В прогалах дубняка мелькали цветные флаги на мачтах, играла на всю реку музыка… пароходы шли первым рейсом в верховья. Где-то на реке были сейчас и те лодки, что отчаливали вместе с нами от деревни. И я потихоньку завидовал им.
Отец глядел, глядел на дубняк и вдруг, будто угадав мои мысли, пристукнул веслом, сказал:
– А что, давай и мы вентеришка три воткнём на стрежне, а?..
– Давай!..
И мы радостные направились туда, где были флаги, музыка, люди… Поднимались по протоке. Здесь течение было такое быстрое, что я грёб почти впустую. Лодка подвигалась только тогда, когда отец подталкивался кормовиком.
«Только бы выгрести…» – думал я, нажимая во всю силу на вёсла, а что будем делать дальше, как-то не представлял. И вот, наконец, мы выскочили, я сразу опустил вёсла, будто достиг конечной цели, – и рвущее течение реки так лихо крутануло и поволокло нас, оттягивая на середину реки, что мы оба испугались, схватились скорее за вёсла…
Насилу вернулись мы к берегу, снова в протоку.
И до чего же быстро нас вышвырнуло обратно в озеро!
Здесь вместе с пеной, брёвнами нас тихо кружило на спокойной воде. Мы сидели оба подавленные. Не говорили и старались не глядеть друг другу в глаза… Каждый чувствовал себя виноватым. У меня ломило спину, жгло обе ладони: на них прорвались мозоли. Не хотелось не только никуда ехать, даже – шевелиться.
И всё же остаток вентерей мы кое-как поставили… Тоже в тишинке, в озере. По-моему отец даже не выбирал для них настоящего места. Поставил так – лишь бы выкинуть…