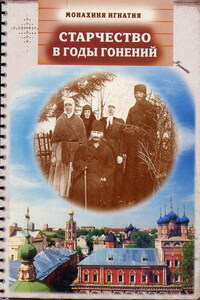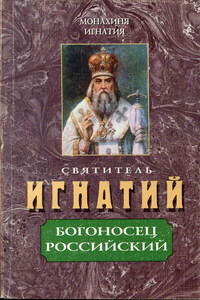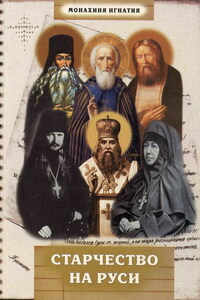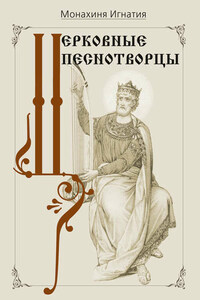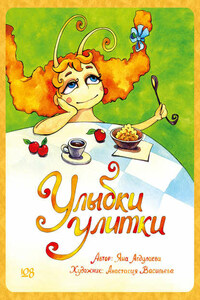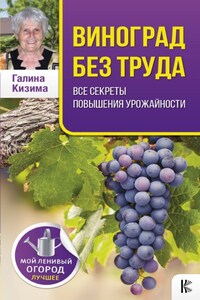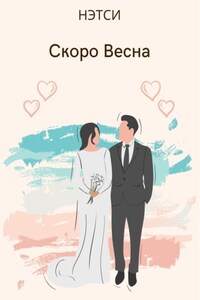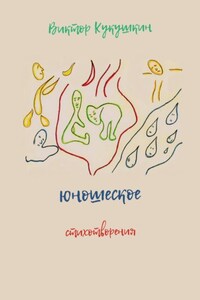Книга о времени и вечности
6 июля 1816 года Державин писал свое последнее стихотворение:
Река времен в своем стремлении
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвения
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!
…Человек брошен в реку времени. Он один на ее стремнине. Как он попал сюда? Где пристанет его утлая лодочка? То, что было предметом его забот и трудов, исчезает в одночасье. То, что утешало его, сметено и забыто. А то, что задержалось на миг в памяти людей благодаря поэтам и историкам, чрез звуки лиры и трубы, все равно исчезнет за первым поворотом реки. Всматриваясь в неумолимый поток, человек познает свое неизбывное сиротство.
«Стихи были только начаты, но их продолжение угадать нетрудно, – считает биограф поэта. – Отказываясь от исторического бессмертия, Державин должен был обратиться к мысли о личном бессмертии – в Боге»[1]. Но поэт не завершил начатого, и первое восьмистишье незаконченной оды навечно осталось не ответом на муки и стенания человека, а величественной констатацией его бренности.
…Шел 1953 год – середина века, бросившего человечество в пропасть невиданных страданий. В Париже крошечным тиражом только что была издана книга, открывавшаяся вопрошанием: «…Где же этот СВЕТ ЛЮБВИ ОТЧЕЙ… где же этот внимательный до последней мелочи Промысл? Все мы подавлены зрелищем неудержимого разгула зла в мире. Миллионы жизней, часто едва начавшихся, прежде даже, чем достигнуто само осознание жизни, с невероятной жестокостью вырываются… зачем же дана эта нелепая жизнь? И вот, жадно ищет душа встречи с Богом, чтобы сказать Ему: Зачем Ты дал мне жизнь?.. Я пресыщен страданиями; тьма вокруг меня; зачем Ты скрываешься от меня?.. Я знаю, что Ты благ, но почему Ты так безразличен к страданию моему?..»[2].
Еще более остро, чем в державинских предсмертных словах, без величия его слога, – обнаженное вопрошание Иова. Но далее шел и ответ: жизнь человека – «малого» для мира и одновременно – мужа «гигантской силы духа», свидетеля любви Бога к человеку.
В тот же год на маленькой подмосковной даче женщина, крупный ученый, заканчивала рукопись, которая не имела отношения к ее изысканиям и должна была лечь «в стол» лет на сорок. В самом ее конце возник державинский образ: река времен; ее течение непрерывно, она неумолима. Но под милующим Божиим оком она и животворит, выводит чудный узор человеческой жизни. Он уже не сотрется вечностью[3]. Этот узор автор пытался разглядеть в своей жизни, в жизни своих близких и в судьбе человека, который открыл ей бесконечный по богатству и красоте невидимый мир, своим взглядом и словом родил ее для Небесного Царства.
Это был ее ответ на вопрос, так полно и так остро сформулированный ее современником. Два человека – дети растерзанного народа, один – в изгнании, другая – в подполье, чада гонимой Церкви, ученики свидетелей и свидетели их жизни почти одновременно нашли слова, чтобы утешить обезумевший от боли мир, поддержать его, подать ему надежду.
Узор жизни ее Отца был очищен от пыли греха, стал осязаем и светел благодаря руководству опытных наставников. С первых дней своей монастырской жизни он погрузился в заботливо поддерживаемую атмосферу духовного подвига. Богослужение и совместный труд, личная молитва и чтение отеческих писаний, и ключевой момент – общение с духоносными мужами, вера и преданность им даже до смерти. Все это легким соделывало путь (Мф 11:30), расцвечивало его яркими бликами любви. И если афонский подвижник во многом был одинок и не понят, то герой ее книги, радуясь братскому единомыслию и поддержке, вместе с Давидом воспевал: се что добро, или что красно, но еже жиги братии вкупе! (Пс 132:1). Руководство отцов, ежедневное, ежечасное обращение к ним даже самое малое дело возводило на высоту христианского подвига, превращало монастырь в семью. Господь становился ближе, понятнее была Его милующая и воспитывающая любовь.
За 15 лет послушания он пришел в меру своих наставников. Руководство отцов раскрыло в нем его первообраз, его призвание, его судьбу. Господь поставил его самого руководителем и пастырем. Теперь он в самом себе являл милующую, очищающую, возводящую к совершенству любовь Отца (Ин 15:2–3) и учил ей многих и многих.
Но Промысл вел его дальше. Подобно верным Аврааму и Иову, он был испытан до конца: действительно ли единственной целью всех его исканий и жертв был Христос и
Его кроткая любовь? И он, свидетель о любви в своей жизни, свидетельствовал о ней и в своих страданиях, и в своей смерти.
Великие свидетели, он и неизвестный ему афонский инок, умерли в один год. Двенадцать дней разделяют дни их рождения в вечность. Остались свидетели о свидетелях и слово почивших мужей.
Время для слова пришло через семь лет. В 1945-м – в год знаменательный и рубежный – голос окреп для того, чтобы заговорить о тех, о ком молчали почти десять лет, но чьи судьбы незаживающей раной кровоточили в сердце. Так появилась первая ее книга – жизнеописание духовного отца. Еще через семь лет, осмысляя свой путь и опыт свидетельства, поощряемая духовными сестрами, она снова обратилась к началу пути.
Обе книги оказались схожи и в то же время различны. В них обеих – одни и те же лица, почти одни и те же годы и события. Но жизнеописание Отца — собранное и законченное – говорит только о нем, все остальное здесь – через него и для него, подчинено стройной и величественной поступи его судьбы. Вторая книга названа «Летопись». Она, как всякая летопись, и не могла быть закончена. Последняя глава написана, когда большинство героев книги были в середине жизненного пути, когда узор их жизни был еще далек от завершения. И главный герой повествования – не батюшка (отча, как говорили они), не кто-то из его детей в отдельности, а вся его духовная семья, его дело.
Она сама и те, о ком она писала, были верными гражданами своей страны, не за страх, а за совесть работали они для ее благополучия. Но страна смотрела на них с подозрением: было в них что-то чуждое ее тогдашним устремлениям. Поэтому законченная рукопись тщательно хранилась от посторонних. Некоторые имена в ней были зашифрованы, фамилии опущены, автор не указан. Читали ее в основном лишь те, о ком говорилось на ее страницах: читали не для того, чтобы узнать что-то новое, а чтобы воскресить в своей памяти первые трудные и светлые годы своего пути.
К счастью, река времен не скрыла безвозвратно написанное полвека назад; воды донесли до нас свидетельство о свидетеле и его деле. Прислушаемся к нему. Оно способно утолить «голод слышания Слова Божия».