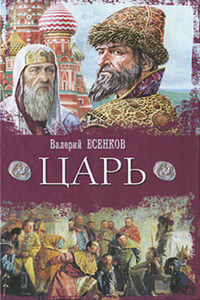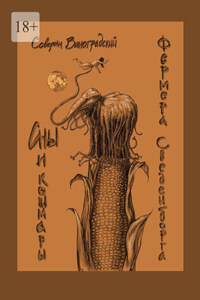В начале нерусского августа, в десятом часу, в немецком городе Бадене, Федор Михайлович нервно шагал теневой стороной, резко поворачивал у толстой каменной тумбы, доходил до угла и тотчас возвращался назад.
«Ну разве умные люди не ошибаются? Умные, гениальные и ошибаются чаще всего, именно ошибаются в средствах к проведению самых решительных и решающих мыслей, и, пожалуй, можно вывести даже закон: чем гениальней они, тем крупней и ошибки. Вот рутина, посредственность – дело другое, рутина, посредственность ошибается реже. Уж конечно, в это трудно поверить, но разверни-ка историю вкруг себя огляниь – непременно наткнешься на преумного человека, который бьет головой об претолстую стену для достижения самой благороднейшей цели, это уж непременно. Глаза только надо иметь, чтобы увидеть. Возьми людей исторических, ну, Петра Великого, например, или помельче, Сперанского, скажем, или из нынешних, ведь и у нынешних может быть ум. Разве не ошибались они и в то же время не имели благороднейшей цели в виду, то есть счастья Отечества? Или взгляни хоть на этих вот, на европейских людей: к примеру, Игнатий Лойола. Ну, для чего он употребил столько самой благородной энергии, столько силы духа и даже упрямства, столько ума? А между тем и его цель была самой высокой, то есть счастье всего человечества. Чем хотел он достигнуть этого счастья? Усилием католичества, то есть, другими словами, колотил лбом об стену…»
Он выглядел больным, усталым, разбитым, но, держась очень стройно и прямо, казался выше своего невысокого, неброского роста. Из-под черной щегольской поношенной шляпы выбивались тонкие, мягкие белокурые волосы. Он был худощав и тщедушен, несмотря на широкую грудь и широкие сильные плечи. Кожа на впалых, изможденных щеках была очень тонкой, прозрачной и белой, так, что казалась пергаментной, восковой. От плотно сжатого рта, от напряженных сдержанных мышц по лицу ходили суровые тени, превращая его в тяжелую, мрачную, неприветную, непостижимую маску. На той маске часто дергались бескровные тонкие нервные губы, которых не скрывали реденькие усы и жидкая рыжая борода, и угрюмой злостью сверкали глаза, сидевшие глубоко под бровями. Живые и светлые, они часто меняли свой цвет от серого к карему, а взгляд их был неподвижен, тяжел, почти неприязнен. Над бровными дугами выпирал из-под шляпы могучий, выпуклый, одухотворенный, взволнованный могучими мыслями лоб, которых не выпускала наружу неукротимая воля. Он точно был замкнут на ключ, весь угрюмый, но внутренне тихий, сосредоточенный и, конечно, по натуре не злой.
Эта мысль об ошибках гениальных людей, особенно тех, кто озарился счастьем всего человечества, явилась неожиданно, вдруг, как будто без связи с другими. Она была любопытна, над ней надобно было серьезно подумать, прощупать её, но это потом, как-нибудь, нынче она была ему не нужна, и он, задержав её на минуту, жалея о том, что нет под рукой обыкновенной писчей бумаги, твердо приказал себе запомнить её, с жадностью повторив ещё раз, и мотнул головой, отгоняя её.
Нынче он не должен был ошибиться. Ошибка была бы страшнее, чем смерть. В самом конце декабря, когда у всех людей и дома и в душе и на лицах был Новый год, в до нелепости скверном спальном вагоне, в котором было холодно, угарно и сыро, как на этапе, страдая больными зубами, он пустился из Петербурга в Москву, с распухшей вздутой щекой, с беспросветной тоской на душе, точно был виноват перед кем, не зная, как поступить, с разбитыми от мелких хлопот впечатлениями, с настоящим ужасом у самых дверей, клятвенно заверяя кого-то, что станет работать, как раб, уж если не ради себя самого, так хоть ради неё непременно, придумал пустить вперед с этой унижающей просьбой Любимова, содрогаясь от гнусной необходимости хитрить и выпрашивать в долг, но Любимова не застал, ждать его не было сил, так он почти против воли взошел прямо к Каткову, который, против ожидания, принял его хорошо, и вдруг сам попросил, но вместо трех тысяч, без которых не мог не пропасть, только две, под новый, честью клянусь, под новый роман, без двух-то тысяч не на что жить, самая свадьба не могла бы заключиться никак. И что бы вы думали? Катков согласился! Тысячу касса выдала на руки тут же, спустя месяц переслали другую, обе они без промедления почти разлетелись на самые крайние нужды, на долги да на помощь родным, которые без него бы погибли, и едва уцелели жалких пять сот. Две сотни, всего только две родным оставил на жизнь. Из остальных, с трудом и стыдом удержанные себе на двоих, когда садились в вагон, едва сбереглась половина. И он, пожив для отдыха в Дрездене, всё не берясь за роман, поехал нарочно играть, проиграл в Гомбурге всё, что взял на игру, проиграл потом всё, что отложил на дорогу, заложил с себя всё, что позволило приличие заложить, и опять проиграл, но остановиться не мог и в Бадене проиграл уже то, что проигрывать было никак уж нельзя, преступно, главное, стыдно. И вот нынешним утром назначена наипоследняя проба. Он должен был выиграть тысяч сто, уж это зарок и звезда!
Ему было тревожно и трудно. Он делал двойную, он делал тройную работу. То и дело приказывал он себе крепко-накрепко быть нынче невозможно спокойным, лучше, как лед, чтобы наивозможнейше строго держаться своей самой простой и самой разумной системы. Он нетерпеливо и быстро шагал по щербатому, чистому, скользкому на вид тротуару, который в этой немецкой глуши старательно выметали и вычищали каждое утро, точно собственную квартиру чистили и мели. Он одну за другой вторую курил папиросу, глубоко и жадно затягиваясь крепко горчившим успокоительным дымом дешевого табака. Он искоса взглядывал на закрытые ставнями окна неприметного серого дома, невозмутимо дремавшего на той стороне.
В этом чертовом месте такие дела обделывались ужасно обыкновенно. В городишке были целые магазины, которые только и промышляли закладкой золота, серебра и носильных вещей, обдирая закладчиков на половину цены, что в России делают только жиды.
Но большие конторы и магазины теснились к самому центру, у всех на виду, он же нарочно выбрался в этот, подальше, поплоше, вертеп, в глухом и пустом переулке, заранее приглядел, не желая мерзость свою выставлять напоказ.
Да, это мерзость, наипоследняя мерзость была, непременно! Он это знал! Через неё, через мерзость, унизительно сознавая, что это именно самая непотребная мерзость, ему предстояло, безвыходно, неизбежно, переступить!
Ноздри его раздувались. Он был нетерпелив по натуре своей, и уж если надобность подошла переступить, так ни секунды не медля. Пустая задержка раздражала его. Он торопился, развлекая себя. Представить того припоздавшего, неторопливо пьющего свой жидкий кофе барышника, скрягу, который так долго не открывал бесстыдную свою западню. Должно быть ужасно похож на папашу Гранде, крепко сбитый, худой, в потертом жилете, в тяжелых, подбитых гвоздями, с медными пряжками башмаках. Впрочем, пардон, папаша Гранде спозаранку вставал. Ну и черт их всех побери!