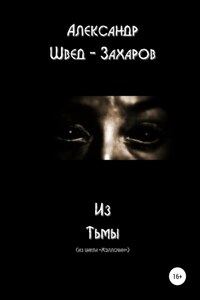Манин дедушка Степан говорил, что зло – это птица, которая залетает в голову. Кто бы мог подумать, что к пятнадцати годам Маше предстоит узнать, где птица свила гнездо.
Жизнь давно уже не была сказкой. Новый брак матери, маленький братик. Под сенью маминого семейного счастья для Марии будто не осталось места. Все чаще теплый взгляд ее касался дочери и, не находя опоры, соскальзывал. Некому было объяснить девушке, что мать предельно измотана ночными бдениями над колыбелью. Мама-Люда просто устала.
К отчиму Маша ровно никаких чувств не питала. Казалось, это полностью взаимно.
Комната Мани стала ее бункером. Здесь в компании рыжих полок с книгами она проводила часы напролет. После школы, наспех пообедав, сразу проскальзывала в свою обитель.
Здесь Маша садилась за стол, который смастерил для нее покойный дед Степан. Пожалуй, он и был ее самым любимым человеком в семье. Конечно, родителей она тоже очень любила. Но всегда есть тот, с кем совпадаешь как влитой. С кем комфортно молчать. В чьем обществе испытываешь облегчение.
Родственники и друзья отмечали Манино сходство с дедом: густые прямые волосы пепельно-русого оттенка, острый, четко очерченный нос и глаза – колкие внимательные темно-серые провалы.
Это все сейчас не имело решающего значения. Ради задуманного Маша приобрела в медтехнике хирургический нож. Вернее малый анатомический. Казалось, это важно. Несколько полосочек поперек запястья – так называемые пробные надрезы. Для чего она это делает? Будто невидимая птица аккуратно постукивала в висок клювиком и говорила «да-вай-да-вай». Режь! Горько, гадко и противно, Манечка. Да-вай!
И Маня сделала первый глубокий надрез. Нож оказался намного острее, чем она ожидала. Намного острее, чем мамины ножи на кухне. Кожа расползлась моментально, и Маша тупо уставилось на открывшееся «окно» в форме веретена на своем предплечье. Моргнула. Откуда-то из-под края раны, из невидимого глазу участка весело побежала алая струйка, мгновенно излившись в озерцо.
Это было слишком. Маша вышла из ступора. «Да что же я делаю?», хотелось кричать ей. Но во рту вдруг сделалось как-то сухо и железно, а в голове – ватно. Ног будто вовсе не стало, и Маня рухнула, ровная как струна. Солдатиком. И звонко стукнулась лбом о деревянные половицы. Правда не услышала этого звука, утратив связь с реальностью еще на подлете к полу.
На стук отреагировала задремавшая в соседней комнате мама. Младенец закряхтел в колыбели. Людмила вздохнула, завела механическую карусель, подвешенную над головой сына и, споткнувшись о коврик в детской, отчего получила неожиданное ускорение, буквально вылетела в коридор.
–Мань?
Тишина.
Людмила спокойно открыла дверь в комнату дочери и испытала аналогичный металлический привкус у основания языка. Однако позволить себе развалиться рядом не могла. Она была матерью. Так что переворачивала она Марию лицом к себе и зажимала ее запястье своими пальцами, заставляя ленивую пульсацию крови остановиться, уже набрав на смартфоне неотложную службу и включив динамик. Чтобы руки были свободны. Они ей сейчас нужны.
– Вот так, – развела руками Людмила.
Этого врача ей порекомендовали знакомые. Серебристый бейджик на пиджаке гласил: «Стрига Владислав Романович, врач-психиатр 8 о. ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 3», что бы это ни значило.
Стены, крашенные в «советский зеленый», увешаны дипломами и сертификатами в рамках. И как он только сюда попал? Светило – и в государственную психиатрическую больницу. Судя по ремонту, точнее по его отсутствию, – едва ли дело было в деньгах. Скорее всего он сидел на ставке дежурного врача-психиатра ради какой-нибудь науки, может писал докторскую работу. Людмила очень смутно себе представляла порядки в медицинском мире.
Одно ясно – этот заставляющий съежиться просторный холодный кабинет и этот врач – из разных миров.
Тут узкие длинные, арочно-скругленные сверху окна-бойницы и облупившийся стол. Тут замок на двери – как в туалете в старом поезде – круглый, и ручки почему-то нет. Это заставляло холодеть и спастически сжиматься Людмилины пальцы. Здесь было плохо, хмуро. Тот кто попал сюда – пропал, вот так ей показалось.
Крупный мужчина лет сорока с темными вьющимися волосами, собранными в маленький хвостик, сидел за широким столом напротив. Лицо его было бледным, глаза ему как будто было лень открыть полностью, так что он смотрел на посетительницу слегка прищурившись. От этого мужественное лицо с грубоватыми приятными чертами казалось еще более усталым и даже немного отечным. Наверное, он с ночного дежурства сегодня, решила Люда. Впрочем, его обаяния все это никак не умаляло. На нем был темно-серый костюм в еле заметную клетку, из-под пиджака выглядывала светло-серая тонкая кофта без ворота. Халата не было. Ну он же психиатр, заключила Людмила, наверное у них так можно.
– Я вас понял, Людмила Сергеевна, – голос вызывал ассоциации с кем-то из семейства кошачьих, мелодичный, но с хрипотцой, – приводите девочку.
– Спасибо, доктор, – мама-Люда поднялась. Мужчина поднялся одновременно с ней.
Хотя мог бы остаться сидеть. Людмиле было приятно: редко встретишь в наше время такого чуткого доктора. Сразу согласился помочь и денег не взял. Люда решила непременно ему что-то подарить потом, когда дело будет кончено. Дорогой коньяк или что там принято.
Она развернулась уже в дверях. Неожиданно, он стоял прямо за ней. И как так быстро и бесшумно он обошел стол? Неважно.
– Понимаете, у меня маленький сын! Я просто не могу…
– Людмила, – доктор мягко взял ее руку в обе свои. Это было на удивление естественно и ощущений, что личное пространство нарушено, не вызывало. А еще Людины боль, тревога и смятение будто вытекли из нее через эту руку и скрылись где-то под его пальцами.
– Ох, – только и выдохнула женщина, – мы придем…
– Завтра в пятнадцать тридцать. Приходите.
Если бы мама-Люда спросила Марию, что собственно не так, почему Маша упирается, не желает лечиться у светоча отечественной психиатрии, Маня бы не смогла объяснить. Не рассказывать же маме про деда Степана и птицу. Ну, ту самую птицу – которая зло. Эта птица сидит у «доброго доктора» на плече. Выглядывает из-за его головы. Как же мама не увидела и не почувствовала?
Под тяжелым взглядом его не полностью открывающихся глаз Маня цепенеет и не может говорить вообще.
«Мамочка», – Маня даже не шепчет. Это уже беззвучная артикуляция.
Но мама давно дома, нянчит братика, кормит ужином отчима… А она, Маша, – здесь. Она сидит напротив него. На том самом стуле, на котором недавно сидела мама и договаривалась о лечении дочери. Снова пересекается с ним взглядом.
– Горько, гадко и противно, Манечка, – вдруг сказал он.