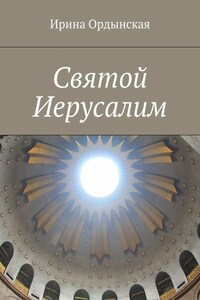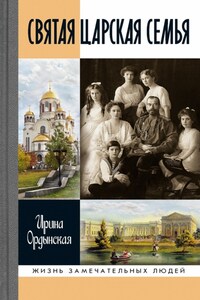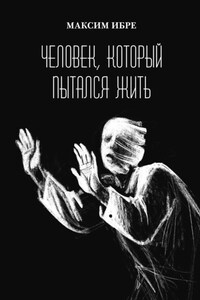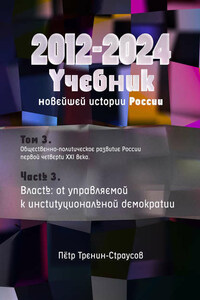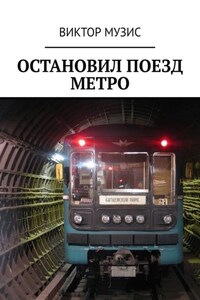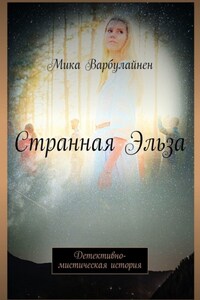Да город ли это? Кажется, слово «Иерусалим» узнаёшь раньше, чем научился говорить. Когда тебя ребёнком приносили в храм причащаться без очереди по воскресным дням, вначале чаще бабушки, а не родители, в молитвах впервые звучало это слово. «Горний Иерусалим» – само имя его давалось будущему лучшему нездешнему миру. Потом город изредка упоминался в новостях, что уж говорить, в печальных, тревожных вестях с Ближнего Востока. И параллельно он, когда ты научился читать, возникал и высился перед тобой в Евангелии.
Перечитывая Святое писание, каждый христианин мысленно за Христом следует по улицам Иерусалима, к храму, к кому-то в гости, в предместья и сады. Запоминая детали, вслед за рассказами евангелистов человек в своём воображении всматривается в оливы и камни, у которых отдыхал Спаситель с учениками, в пещерки, где они прятались от ненастья. Со слезами на глазах каждый читает страшные слова, как по улицам города Он измученный нёс Свой Крест. И пытали Его здесь, и последнюю ночь перед казнью провёл Он в стенах старинной городской тюрьмы. И само первое Распятие, с Его Телом, стояло на камнях иерусалимской земли.
Неужели вот так можно просто взять билет и поехать к такой святыне? Пусть недолго, но пожить в городе, где земля полита кровью самого Иисуса Христа? Где Евангелие оживает реальностью святых мест?
Только, наверное, нельзя случайно поехать в Иерусалим, раньше, чем будешь полностью готов. Ведь малейшая неуверенность может обернуться страшным кощунством, город, где произошла искупительная жертва, не место для сомнений. Сюда, как на литургию, должны приходить только верные. Это и есть место первой литургии, и весь город как первый алтарь.
Кому принадлежит этот город? Обычный, живой, в нём рождаются и умирают, работают и воюют, его строят. Но он будто сам, как человек, состоит из двух частей: физической и духовной. Молитвы на всех языках мира навсегда остались над его улицами. Много веков Иерусалим оставался мечтой властителей и молитвенников. Люди хотели владеть им. Но разве это возможно? Он всегда принадлежал только Богу, поэтому сквозь человеческую глупость обладания упорно прорастала живая вера. Каким-то чудом Божьим не только спаслись в веках войн христианские святыни, но и умножались. Сколько русских подвижников создавали «русскую святую землю», с подворьями, монастырями, православными храмами. Даже наша смута-революция не смогла разбазарить это богатство, созданное беззаветным трудом предков. С городами бывает иначе, вот другому великому городу выпала печальная судьба, золотой Константинополь не сохранил практически ни одной христианской церкви из трёх тысяч, и в великой Софии была мечеть, а теперь музей. Иерусалимом владели многие народы, только разве он им до конца принадлежал?
И всё же, зачем мне нужно было ехать в Иерусалим? Что в нём искать? Разве в жителях его, даже в священниках и монахах, складывается какая-то особая составляющая от долгого пребывания в таком святом месте? Да и камни, видевшие Христа, не смогут передать человеку свою память. И всё-таки мне обязательно нужно было поехать туда, где родилась моя вера. Именно моя, личная, та, которая была свята для всех моих предков, среди которых (включая XX век) точно не было ни одного некрещеного. Если поразмыслить, то Иерусалим – это наша духовная Родина. Как же за всю жизнь ни разу на ней не побывать?
Ехали всей нашей небольшой семьёй: муж, дочь и я. Нам сразу стало понятно, что поселиться нужно где-то недалеко от старого города, вокруг которого и в котором находятся все места, намеченные нами для поклонения: Храм Гроба Господня, Скорбный путь, Могила Богородицы, Масленичная гора, место Тайной вечери, русский Троицкий храм, Александро-Невское подворье. Казалось необходимым спланировать главные точки притяжения, иначе как без подготовки было знать, куда идти в таком близком и в тоже время совершенно незнакомом городе. Можно было предположить, что за последние два тысячелетия он изменился, да и нет его карты в Евангелии.
Путеводители были деловиты и строги, интернет пестрил самодельными путевыми рассказами и советами в основном бывших наших сограждан, ныне граждан Израиля, подрабатывающих гидами. Они в своих повествованиях много уделяли внимания фактическим деталям, были ироничны, по-советски не религиозны, разве что у некоторых Стена плача вызывала почтение, в остальном мысли повторялись. После знакомства с несколькими такими сочинениями читать их расхотелось вовсе, путеводители были хотя бы бесстрастны. Все источники сходилось в одном: в Иерусалиме жарко, поэтому стоит брать с собой панаму, и потом каждый день не забывать положить в сумку бутылку воды. Ну и на том им было спасибо. Хотя мы ехали зимой, сразу после Рождества, и этот совет тоже был нам не нужен.
А вопросы-то оставались, никто не советовал главного, как подготовить к такому путешествию душу? Что она должна взять с собой в дорогу? Чем запастись? Чтобы приехав в Иерусалим, ты не ужаснулся – не готов, главное забыл. Конечно, перед дорогой пошли на службу в церковь. Попросили благословения у священника. В ответ он почему-то вспыхнул, разволновался, смутился и попросил помолиться за него «там». Благословил как-то растерянно, будто подыскивал нужные слова, но так их и не нашёл. Перекрестил, как обычно, с пожеланием хорошей поездки. А может и правильно…. Что сказать особенного человеку, собравшемуся на Святую землю? Спросить: а ты готов? А вдруг ответ: нет! А он уже билеты купил…. Позвать его на длинный важный разговор? А если батюшка сам не был в Иерусалиме. И стоит ли вообще готовиться к паломничеству особо или к каждому посещению святынь должна идти долгая дорога – в годы?
Мои самые любимые поездки в святые для православных людей места наполнены столькими личными переживаниями, что даже если я была там всего один раз, то всё равно в душе с этим местом связано особое ощущение. Результат каждой поездки – важнейший опыт, в памяти доброе сокровище, к которому как только прикасаешься, сразу обдаёт теплотой радостью.
В Троице-Сергиеву Лавру я впервые попала почти девочкой, летом 1978 года, в стране победившего социализма нас из института туда могли привезти только на экскурсию. Но я ехала как православная христианка. Бог был милостив к нашей семье, глубоко верили мама, тёти, бабушки, среди прадедов было два церковных старосты, православие с детства стало важнейшей частью и моей жизни. После экскурсии по Лавре, гид «дал» нам свободное время. Все разбрелись по территории, а мы с подругой как-то легко, непринуждённо разговорились с женщиной в чёрном платке, которая ждала своего духовника. Она хотела принять постриг и мучилась бесконечными вопросами: готова ли она, какой должен быть монастырь, какой разговор состоится у неё с духовником? И вот так нам двум юным девушкам она легко и свободно рассказала о своих терзаниях, а потом с огромной любовью и о самой Лавре (узнав, что мы здесь впервые). Теперь каждый раз, бывая в Лавре, я вспоминаю ту милую женщину, с её искренней любовью к Преподобному Сергию и его творению. Как сложилась её судьба? Сбылась ли мечта о монастырском служении? В каком монастыре она закончила свою жизнь? Спасибо ей большое за ту славную беседу, полную её веры в Бога. Её тёплой любовью для меня навсегда осталась отмечена Лавра Преподобного Сергия, будто женщина отдала этому месту своё живое чувство православной веры.