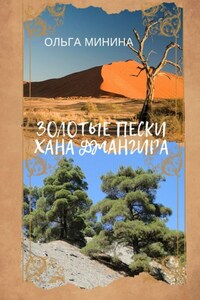Эта история приключилась со мной в далеком 1946 году, через год после того, как наши войска выбили фашистов из Кёнигсберга, и первые русские переселенцы приехали заселять новую территорию. Мы с мамой и сестрой Женей были в их числе. Помню, как нас высадили из поезда за километр до перрона, который все еще не был восстановлен, и мы долго шли по рельсам до города. Кёнигсберг лежал в руинах, над которыми, как застывший скелет, возвышался обгорелый остов Королевского замка. В ту минуту мне показалось, что кроме куч битого кирпича в городе не осталось ничего.
Но нам повезло: нас заселили в район Амалиенау, практически не пострадавший от бомбежек английской авиации и боевых действий. В старый немецкий дом, в котором, после бегства жившей здесь немецкой семьи, осталась даже диковинная фаянсовая посуда. Мы, дети, с любопытством разглядывали непривычную мебель, разбросанные по полу газеты на немецком, камины из красного кирпича, о которых мы только читали, но никогда не видели в жизни.
Это был чужой мир, где еще совсем недавно жили враги, подло напавшие на нашу страну и стремившиеся уничтожить в ней все – людей, города, культуру, язык. В этой войне, грозившей нам полным физическим истреблением, мы победили. И вот теперь (вот ведь как повернула судьба) на правах победителя мы получили эту землю, на которой должны построить свой мир и стереть с ее лица все следы фашизма. У нас было странное чувство торжества победителя, неприязни от встречи с чужим враждебным миром, хоть и лежащим в руинах, и понимание своей непростой задачи – закрепиться на этой земле, чтобы больше никогда с нее не было нападений на нашу страну.
Нам, собственно, и некуда было ехать: наш старый дом в Смоленской области разбомбили немцы, родственников почти не осталось, и было все равно, где жить, лишь бы был свой угол… И мы стали обживать новое место.
Мать почти сразу по приезде устроилась на работу на восстанавливающийся цементный завод. Помню, как она принесла домой целую буханку хлеба и сказала нам с сестрой: «Ешьте!» Мы съели по куску и удивленно покосились на нее. «Ешьте все!» – повторила она. И мы медленно, впитывая в себя запах свежей запеченной корочки и нежного ноздреватого мякиша, доели свои половинки буханки и довольно заулыбались. А мать вдруг неожиданно для нас заплакала и убежала в другую комнату. С этого дня для нас с сестрой началась, по нашим понятиям, райская жизнь. Хлеб мать теперь приносила регулярно, и не только хлеб, но и картошку, консервы, иногда даже масло. И постепенно мы забывали, что такое голод.
Но война все еще была рядом: каждый день саперы взрывали мины и неразорвавшиеся снаряды в городе. Каждый день, кто-то погибал, подрываясь при расчистке завалов, погребов и даже вскапывая землю под огороды. Гибли не только военные, но и гражданские, и даже такие же мальчишки и девчонки, как мы. Потому что развалины, подвалы, полузасыпанные туннели были излюбленным местом наших игр. Мать, понимая, что нас не удержать, только просила быть внимательными и осторожными, не наступить случайно на мину или снаряд.
Мы с Женей быстро подружились с соседскими ребятами и стали частью дворовой ватаги. Но ближе всех мы сошлись с Мишей, серьезным и вдумчивым сыном командира группы разминирования, и Мусей (Марусей). Она была сирота и жила с бабушкой. Родителей ее немцы расстреляли прямо на ее глазах, а сестру угнали в Германию. От отца у Муси остался китель и черные хромовые сапоги, которыми она очень дорожила и показывала только под настроение, да и то, не каждому.
Было лето, и мы, дети, были предоставлены сами себе. У взрослых хватало серьезных дел и без нас. Мы тоже не скучали, и целые дни проводили на улице, наблюдая, как оживает город. Отряды военных и горожан расчищали завалы и убирали с улиц битый кирпич, немецкие таблички с названиями улиц менялись на наши – русские, заработали лавки и магазинчики. Но самой большой нашей радостью стал вновь запущенный весело звенящий старый немецкий трамвайчик, на котором можно было проехать почти через весь город на подножке.
В то памятное утро, в нашу открытую форточку влетел камешек, метко брошенный Мишей, и упавший Жене на одеяло. Просто так он нас так рано никогда не будил – случилось что-то необычное. Мать уже ушла на утреннюю смену, и мы без всяких лишних вопросов быстро собрались и побежали во двор.
– Обвалился подвал в замке, а там, представляете, картины из музеев, статуи – чего только нет! – зашептал Миша. – Отец со своими поехали туда проверять, нет ли мин.
У Мишиного папы, дяди Васи, стоял настоящий телефон, и все новости о происшествиях в городе он узнавал первый. Так что тут сомневаться не приходилось, да и много тогда в городе всего находили, что немцы, убегая, попрятали. Но тут… Дело было не простое. Это не посуду в саду какой-нибудь бюргер закопал.
Не дожидаясь первого трамвая, мы вчетвером побежали со всех ног к Замку. В сиреневой предрассветной мгле он грозно смотрел своими пустыми обгоревшими окнами на все, что происходило вокруг. И было непонятно, смирился ли он со своей судьбой, или из последних сил вынашивает страшные планы мести. В нем было что-то жуткое, зловещее и в то же время печальное, словно он доживал последние дни своего величия и славы, готовясь умереть навсегда…
Мы всегда обходили Замок стороной, подозревая, что он не сдастся просто так и унесет еще не одну жизнь. Но тут самое интересное происходило внутри, и мы, уже не сомневаясь, пересекли Кузнечную улицу и через ворота Альбрехта вошли во двор.
В подвале у башни Боварта копошились люди, были слышны негромкие голоса и подвальную полутьму время от времени прорезал свет фонариков.
– Стой, пока туда нельзя, отец увидит. Надо подождать, когда они уйдут на перерыв или еще куда, – зашептал Миша.
– Тогда давай попробуем по подвалу подойти через Блютгерихт. – предложила Муся. Она жила в Кенигсберге уже почти год и знала здесь все.
Через разлом в стене мы попали в старый средневековый замковый ресторан Блютгерихт и ощупью стали пробираться мимо огромных деревянных бочек. Они были пробиты осколками снарядов, вино давно уже вытекло, и вокруг стоял кисловатый запах. Уже светало, через разбитые стены пробирался утренний свет, освещая усыпанный осколками бутылок пол. Шли осторожно, чтобы не наступить на них или, не дай бог, оставшиеся мины. Вот уже замелькали лучи фонарей саперов, и мы чуть притормозили, чтобы не быть застигнутыми врасплох. «Что они там делают, интересно» – думал каждый из нас, наблюдая за тем, как они что-то вытаскивали из разбитого входа в подвал или туннель. И тут Муся ухватила меня за руку, и мы похолодели: это были не саперы! Люди были одеты в темные серые или черные полинявшие плащи с капюшонами, и легко сливались с темнотой, стоило им отойти со света. Их было всего человека три-четыре, намного меньше, чем отряд саперов. Они спешили, говорили тихо… и по-немецки.