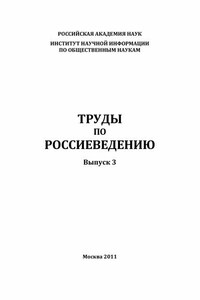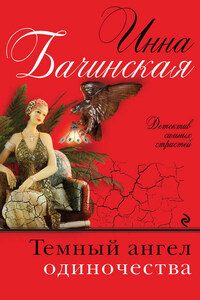Настоящий выпуск «Трудов по россиеведению» строится вокруг двух блоков проблем:
– свобода и реформаторство в России – история и современные перспективы;
– Отечественная война 1941–1945 гг. как историческое явление и «место памяти» советского и постсоветского обществ.
Нам представляется, что именно эти проблемы формируют «повестку дня» России 2010-х. Являясь основой социальной идентификации, они не только консолидируют, но и разделяют: это своеобразные линии размежевания/раскола российского общества.
В материалах сборника акцентируется связь тем свободы и войны/ памяти, на первый взгляд, весьма друг от друга далеких. Самоопределяясь в их отношении, российское общество формирует собственные перспективы: будет ли оно конституироваться на принципах личной ответственности и правового регулирования или «уложится» в рамки традиционной формулы «самодержавие – православие – советскость/народность» и соответствием ей станет измерять собственную стабильность/успешность.
Разговор о свободе требует предварительного пояснения. Свобода/несвобода – вовсе не абстрактные категории. Говоря о социальной свободе, мы имеем в виду расширение зоны личной ответственности, обеспеченной правом. При этом речь идет о всех сферах жизни общества – экономике, политике, культуре и т.д. Свобода – это не вольница, а правовой порядок, где социальная жизнь регулируется правом (а не через иные формы – религиозные или властно-насильнические), установлено правовое равенство (все являются равными правосубъектами) и правовая однородность (действует одна для всех правовая система). Залог свободы – наличие свободы выбора. Организация общественной жизни на началах свободы предполагает достаточный уровень экономического развития.
Социальная несвобода, в нашем представлении, это расширение табуизированной зоны, где действует система автоматических табу/запретов, обеспеченная произволом. Несвобода – всегда насилие (одного над всеми или всех над одним), т.е. отрицание договора/компромисса как принципа социального регулирования, а значит, и разнообразия общественных интересов; всегда неравенство («держатели» несвободы приобретают преимущества в разных социальных сферах, распределение/иерархия которых в любой момент могут быть поставлены под сомнение и пересмотрены); всегда ограничение выбора, отказ от личной ответственности и нейтрализация правовых норм (Конституция в несвободном обществе не работает – ей нечего обеспечивать, так как не действует правопорядок; «управляют» правом в своих интересах те, кто обладает социальными преимуществами); всегда упрощение (социальное, управленческое, культурное, антропологическое и т.п.) – вплоть до элементаризации; всегда тяготение к закрытости – закрытому типу отношений, институтов и проч.
При этом в условиях несвободы можно чувствовать себя вполне комфортно: здесь сняты темы индивидуальной инициативы и ответственности, но действенны формы коллективного взаимодействия и защиты, а порядок достигается почти автоматическим, как в армии или тюрьме, следованием нормам господства/подчинения, общего жизненного распорядка (показательно, что одна из определяющих черт советского человека – ожидание установки «сверху»). Свобода же, связанная с постоянным, подчас сложным выбором, рождает чувства страха и неуверенности. Движение от несвободы к свободе – глубокий преобразующий процесс, который не ограничивается созданием институтов, подготовкой судей, изданием юридических текстов, оснащением судов и полиции современными техническими средствами. Это прежде всего сложная культурно-ментальная перестройка.
В настоящем выпуске «Трудов по россиеведению» делается попытка рассмотреть тему свободы в России ретроспективно, причем как в историософском, так и в конкретно-историческом отношениях. В работах Ю.С. Пивоварова и В.П. Булдакова прошлое выступает своеобразной призмой для анализа современной российской жизни, «исходной площадкой» для обсуждения социальных перспектив. Их дополняют материалы рубрики «Наследие – наследникам», посвященные проблеме конституционализма в пореформенной России. Современная ситуация в стране придает этой «ретроспекции» неожиданно острую актуальность.
История освоения Россией темы свободы – это рассказ о том, как формируется современное, т.е. построенное на началах свободы и взаимной ответственности, общество. Вариантов такого рассказа, как показывают материалы выпуска, может быть множество. Весьма перспективным представляется изучение истории понятия «свобода» («воля»/«вольность») – скажем, в политико-правовом дискурсе XVII–XVIII вв. (см. статью А.Б. Каменского). Такого рода исследования вносят определенность в общий разговор о России: проблема категорий/языка, на котором мы говорим, – это проблема адекватности/качества разговора. В работах В.В. Лапкина, С.В. Беспалова, В. Дённингхауса тема свободы конкретизируется через анализ «механизмов» великих реформ конца XIX – начала XX в. Из тех вопросов, которые поднимают авторы, особое значение имеют, на наш взгляд, следующие: об ответственности элит – инициаторов преобразований и характере адаптации к ним массового человека (в данном случае – российского крестьянина; отсюда такое внимание к аграрной реформе); о росте в обществе в ответ на эмансипационную «перестройку» потенциала несвободы и возможностях его компенсации/сдерживания; о критериях оценки прошлых реформ каждой новой современностью (иначе говоря, об основаниях различения «неудачников» и «героев» в истории страны).
О последнем вопросе скажем несколько слов. Эпоха трех последних царствований – не только ее люди, но и тенденции, в ней действовавшие, – имеет едва ли не самую устойчивую в нашей истории репутацию неудачной. Реформы/перемены рубежа XIX–XX вв. дискредитировала революция. Почти все ХХ столетие взгляд на то время формировали «победители» (те, кто воспользовался «неудачей»), а также те, кто числил (и числит) себя среди пострадавших от «исторического поражения». «Победители» и «пострадавшие» выносят эпохе обвинительный вердикт, одинаково оценивая ее в «перспективе» конца. Позднеимперское реформаторство не признано «нашим» (подходящим/адекватным данному типу социума и потому результативным) типом преобразований; мы по-прежнему ищем «великих реформаторов»/«героев» в начале XVIII или в середине ХХ в. Правда, современные исследователи уже не только объясняют, оперируя фактами, как эпоха шла к гибели, но и пытаются понять, каким образом она эволюционировала и с чем не справилась, на чем надломилась. Однако освободиться от убеждения в предопределенности (исторической закономерности) неудачи не могут. Здесь, как мне кажется, работает наш опыт – концентрированный, страшный, навязчивый опыт несвободы, сформировавший русского человека XX–XXI вв.