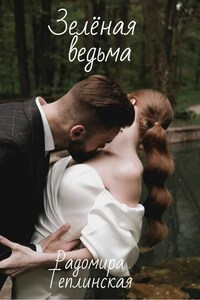«Я шёл мимо брошенных домов,
Перевёрнутых машин и горящих покрышек,
И неожиданно услышал голос:
Сын мой, пора увидеть, сын мой, тебя в деле.
Сын мой, бей витрину, сын мой, хватай телек…»
Музыка любимой группы билась в наушниках, заставляя меня улыбаться. «Anacondaz» всегда отлично ловили моё настроение. Октябрь, а уже холодно. Жёлтые листья ломаются под туфлей с противным скрежетом – словно тонкие стеклянные игрушки.
Не люблю осень, она приносит только пытку в виде начала учебного года.
Не перевариваю сокурсников, как и они меня. Хотя меня не переносят на дух все в этом огромном здании, заполненном людьми. Даже преподаватели смотрят на меня, как на белую ворону.
Ирония.
Альбинос – белая ворона для общества во всех смыслах. Белый человек в чёрном пальто. Я похож на траурный памятник морали и терпимости. Потому покидаю университет последним – чтобы в человеческом месиве не стать идеальной мишенью, в которую полетят камни сдерживаемых на занятиях эмоций.
Темнеет гораздо раньше, чем летом, но недостаток света меня не тревожит. С солнцем у нас отношения натянутые, всему виной врождённый дефект. Кожа, не защищённая меланином, сгорает почти мгновенно. Жёлтый лик – враг, я согласен с Голлумом. Солнце показывает моё генетическое уродство явно, моё отличие. Зато в темноте все кошки серы. И альбиносы тоже.
Завернув за угол махины университета, я не сразу понял, что надвигается опасность. В осенних сумерках на меня бежал, прихрамывая на одну ногу, горбун в длинном тёмном плаще. Он, словно огромная уродливая птица, летел на крыльях своего одеяния, то исчезая в тени между фонарей, то появляясь в их больном жёлтом свете. Неравномерный топот шагов оглушал, тело не хотело двигаться с места, ноги будто приросли к тротуарной плитке, а сердце колотилось в горле. Мне просто хотелось исчезнуть, казалось, что стоит этому цирковому уродцу коснуться меня, и я умру.
Перед самым моим носом мужчина затормозил, едва не врезавшись всем своим грузным телом. В память впечатались его странные глаза разного цвета: жёлтый и красный. Тьма поглотила сознание.
Ощущение падения в бездну стало явственным, словно я летел на землю, но никак не мог долететь. То ли завис, то ли время остановилось, но чувство того, что тело проваливается в пустоту, не отпускало, а перед глазами пронеслась, без преувеличения, вся жизнь от колыбели.
Первые воспоминания были размытыми, как картинки под водой. Тёплые руки, смех и плач, высокие серые стены, не очень удобные кровати с деревянными решётками. Много детей, которые, как и я, сидят в кроватках-клетках, как зверьки.
Мы рассматривали друг друга с интересом, общались жестами. Мы учились ползать, затем ходить, вылезать из своих клеток. Всматриваясь друг в друга, как инопланетяне, впервые выбравшиеся на одну планету с разных уголков Вселенной, мы вместе узнавали наш микромир.
Только некоторое время спустя я узнал, что «детский дом» – это пристанище тех, кто не нужен родственникам, как мне сказал один мальчик по ту сторону забора, у которого мы разговаривали. Еще он добавил: «Таких уродов, как ты, всегда отправляют в детдом». Я урод.
Среди таких же сирот, ущербных в разной степени, я не был слишком странным. Мы росли своей ватагой бракованных, играли в странные игры и не обращали внимания на недостатки друг друга. Всё началось тогда, когда за мной пришли они.
Осень тогда была такой же холодной, как сейчас, я болел и почти не выходил из палаты в лазарете, чтобы не заразить остальных. Помню, как ко мне ворвалась девочка с отчаянно косящими глазами и крупными передними зубами, из-за которых её все называли «зайкой».
– Алик, Алик, там присли всрослые, – она тараторила, слегка шепелявя, – тебя саберут, я снаю!
Зайка не отстала бы, я знал, потому, кутаясь в большую тёплую кофту, которую мне дала фельдшер, вышел в игровую комнату. Выглядел ужасно – белые волосы всклокочены, несмотря на то, что острижены коротко, нос раскраснелся, я всё время чихал и покашливал, а бледные глаза слезились. Вылитый лабораторный крысёныш.
Через десять минут в игровую зашли взрослые. Парами они бродили среди детей, заговаривали, рассматривали нас, как бесплатные поделки на ярмарке. Хоть неказистые, зато на халяву. Редко на лице приходящих людей я видел настоящее желание подарить Дом и Любовь. Многие с каким-то первобытным страхом косились на меня. Я ужасно громко чихал, шмыгал носом, и, закутанный в безразмерный серый свитер, казался призраком умершего мальчика.
Среди обычных парочек, молодых и не очень, сильно выделялись двое мужчин. Мне, в силу детской наивности, казалось, что они близкие друзья или братья. Один из них был на целую голову ниже другого, его светлые волосы были аккуратно пострижены, красиво уложены, одежда сидела идеально, костюм без заломов и складок казался частью владельца, туфли сияли чистотой. Второй – рослый, темноволосый, с длинной гривой волос, его мощный торс при вдохе почти разрывал тёмную ткань рубашки-поло, загорелые руки сложены на груди. Он казался мне суровым истуканом какого-то бога, подобным тому, что я видел однажды в книжке про индейцев – из-за крупных черт лица и густых бровей. Но когда утончённый русоволосый спутник ему что-то говорил, то великан улыбался пухлыми губами, и в уголках его глаз собирались солнечные морщинки.
На мою беду щёголь обратил на меня внимание, когда я чихнул довольно громко и не смог убедительно имитировать стену.
– Посмотри на него, Алекс, – защебетал он, лёгкими шагами подбегая ко мне. Влажные глаза мужчины были готовы потечь слезами, – несчастный ангелочек простужен! Как тебя зовут, малыш?
– Альберт, – прошептал я, стесняясь собственного вычурного имени. Воспитательница однажды сказала, что имя было написано у меня на пятке, когда меня доставили в детдом.
– Как подходит! Ты и правда белый и как будто светишься! – мужчина, казалось, вот-вот просочится сквозь пол сладкой карамельной лужицей. – Алекс, он нам нужен. Я никого другого не возьму!
Я впервые видел на мужском лице выражение такое же, как у наших девочек, когда они просят уступить им светлое место у окна, – он надул губы, поднял брови и как-то по-щенячьи посмотрел на великана. Я думал, что Алекс сейчас будет смеяться, но, к моему изумлению, он улыбнулся и как-то осторожно положил восторженному руку на плечо.
– Я всё улажу, – разнёсся его звучный баритон, и мне стало от чего-то стыдно, – пообщайтесь пока.
Фигура Алекса поплыла через комнату к воспитателям, а я остался наедине со странным мужчиной. Он присел рядом со мной на детскую лошадку, чем вызвал искреннюю улыбку.