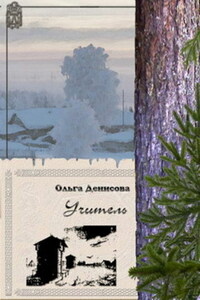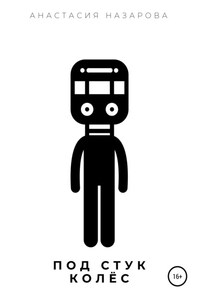Нечай ненавидел холод. Именно ненавидел, а не просто недолюбливал. Холод приводил его в бешенство, холод убивал его, холод пугал и подавлял. Поэтому, едва ночи стали сырыми и стылыми, с сеновала он перебрался в дом, и теперь валялся на печи вместе с тремя малыми племянниками, которых старший брат наплодил в изобилии. Его жена Полёва – маленькая, высохшая от бесконечных родов женщина – и сейчас была на сносях, и кормила грудью младшего сына. Не пройдет и подугода, как младенцу придется освободить люльку и перебраться на печь, к братьям и сестрам. Старшие же мальчики – одиннадцати и двенадцати лет – уже вовсю помогали отцу.
Дети не раздражали Нечая. Их возня и повизгивание ему не мешали, он позволял им ползать по ногам, садиться на грудь, разве что иногда осторожно снимал с себя особенно расшалившегося проказника, и чувствовал себя старым ленивым псом, вокруг которого ползают веселые щенята.
Печь дышала теплом. Нечаю казалось, он никогда не привыкнет к теплу, никогда не насытится им, никогда не перестанет ощущать его блаженство. Летом он ловил каждый солнечный луч, и на закате подставлял лицо остывающему солнцу, чтоб до утра помнить его прикосновение. Но и солнце не могло сравниться с печью – он прижимался к застланным овчиной кирпичам всем телом, и надеялся втянуть, вобрать в себя их жар, накопить, чтобы потом тот защитил его от холода.
Брат Мишата не разделял его восторга. Пока Нечай валялся на сеновале, Мишата еще мирился с его присутствием, когда же Нечай перебрался в дом и стал мозолить брату глаза ежечасно, тот с каждым днем злился все сильней. Хитрый инструмент бондаря переехал из холодной мастерской в дом, заняв не меньше его половины – Мишата поднимался до света, чтобы использовать каждую минуту дня, становившегося все короче и тусклей. Он был старше Нечая на восемь лет – высокий, статный, красивый мужик: длинные, черные, сурово сдвинутые брови над горящими, серьезными глазами, темный чуб, завитком падающий на лоб, лихие усы над пухлой губой. Да, брат Мишата был обстоятельным и благонравным человеком, отцом большого семейства. Каждое воскресенье он ходил в церковь, строго постился по средам и пятницам, приучая к этому детей с малолетства, вовремя и по-хорошему платил оброк боярину, имел уважение односельчан и не последний голос на сходе. Нечая от всего этого тошнило.
Нечай никогда не задумывался о своей внешности, он с десяти лет жил в окружении мужчин, и о женщинах имел весьма смутное представление. Он чем-то походил на брата, только волосы его, такие же темные, не вились, и брови были короче и светлей. К тому же Нечай не сдвигал их к переносице, и глаза его серьезными называть не стоило. Мишата сильно перерос отца, а Нечай оказался и ростом, и сложением ровно таким же как отец, и теперь у него не было проблем ни с одеждой, ни даже с обувью. Полеву злило и это – она надеялась, что вещи отца перейдут к ее многочисленным детям.
Когда он вернулся в родной поселок после пятнадцатилетнего отсутствия, то с удивлением заметил, как смотрят на него молодые девки и бабы постарше, а особенно – вдовы с детьми. Сначала его это удивляло, потом – пугало, а теперь стало веселить. Их не смущал безобразный, разлапистый сизый шрам на левой скуле – след сведенного клейма, впрочем, в этой глуши никто не слышал о том, что колодников клеймят, и клейма эти бесследно стереть невозможно.
Мишата советовал Нечаю жениться на вдове: еще бы, в отцовском доме и без Нечая было тесно, куда уж привести молодую жену! Однако жениться Нечай не собирался вовсе: семейная жизнь нагоняла на него невыносимую скуку. Пока он не хотел ничего – только лежать, впитывая в себя печной жар, и ни о чем не думать.
– Нечай, – Мишата зашел в избу, пригибаясь, чтоб не задеть косяк низкой двери, – мы в лес едем, подсобил бы…
Нечай лишь повернул голову к стене. Тон у брата был вовсе не просительным, а требовательным и недовольным.
– Четвертый месяц валяешься, палец о палец не ударишь! Ребятишки и то работают, ты один – бездельник и пьяница!
Что правда – то правда. Нечай последнее время любил сидеть в трактире – слушать, о чем говорят проезжие люди, смотреть на новые лица, и чувствовать головокружительное забытье, падающее в желудок янтарным жаром подогретого яблочного вина.
– Я с тобой разговариваю, ты глухим-то не прикидывайся!