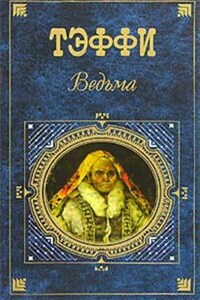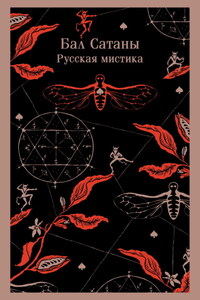…В самую страшную полуденную жару мы расстались с городом; здесь в эту пору мертвенность полная; ставни заперты, и по опустелым улицам друг за другом гоняются песчаные вихри, по временам подхватываемые неизвестно откуда налетевшим ветром. Неслышно катится наша повозка по пустынным переулкам, прилегающим к полю; кое-где врезывается она в вязкую грязь никогда не пересыхающей лужи, и потом – снова не слышно шума колес и стука неподкованных лошадиных копыт, только мелкая песчаная пыль не отстает от нас и густым облаком ползет под повозкой. Миновав почерневшую и насквозь прожженную каменную кузницу, внутри которой глухо шипели мехи, густо разлетались из-под тяжелого молота искры и суетились закопченные кузнецы, изредка выбегая наружу с надвинутой на затылок шапкой и ручьями черного пота на лице, – мы, наконец, совсем расстались с городом. Меньше и меньше слышится кузнечный молот, и скоро хор кузнечиков, грянувший во ржи, глушит его своим назойливым чириканьем… В эту минуту вы чувствуете себя хорошо, и потому именно, что невыразимо быстро мелькнувшая картина городской жизни нарисовала вам целые толпы людей, которые разом разевают свои рты, говорят что-то, и вам, как жителю города и знакомцу этих людей, не нужно иметь слишком чуткого уха, чтобы расслышать здесь жалобы, просьбы. Жалобы эти так стары, столько веков зудят они над человеческим ухом, что для действительной помощи им ни во что пошла бы целая ваша жизнь, да и то ничего не вышло бы. А поэтому-то в настоящую минуту в вас и родилась хоть и дикая, но совершенно законная дума: «Слава богу, что мне самому не пришлось протянуть ног в этом бучиле».
Жара не дает вам покою; вы жмуритесь; лоб болит, и кажется, что вместе с вами жмурится и само солнце от нестерпимого блеску и духоты. Черные, кое-где уже вспаханные под озимое поля, словно в дыму, тонут в синеве палящего зноя, который обдает собою верхушки соснового леса, отчего ярче виднеются красные сосновые стволы, будто освещенные снизу кострами. Картина, раскинутая перед вами проселком, не может похвалиться особенным разнообразием: вдали видны неподвижно растопыренные мельничные крылья, ярко зеленеет лоскут конопли, врезавшийся между ржи, а повсюду – и направо и налево – по отлогим равнинам разбросаны разноцветные шашки полей. Там и сям, в разных точках над колосьями, виднеются нагнутые бабьи спины, виден взмах пучка срезанных колосьев, загорелое лицо бабы, обернувшейся посмотреть на вас, и потом снова нагнутая спина ее.
Все это молчит, без умолку работает; в эту пору в деревне не сидит сложа руки ни одна человечья душа; а поэтому постоянная безлюдность и без того глухого проселка увеличивается теперь в сотни раз и, наконец, начинает вам надоедать… Кроме лесов и ржи, вам хочется встретить хоть одну живую душу, – будь то становой, который не замедлит при этом обдать вас песком и пылью и оглушить неистовой трескотней колокольчика, или простая деревенская баба, – все равно. И вот, наконец, вдали показывается телега; на возу с каким-то продуктом, плотно укрытым кожею и увязанным веревками, покоится мещанин, подставив спину солнцу и подложив руки под голову; воз поровнялся с вами и проехал; вы опять в поле и здесь имеете достаточно времени рассуждать о том, почему при таком незначительном случае, как ваша встреча с мещанином, не могло обойтись без того, чтобы мещанин или ваш возница не наехали друг на друга, не сцепились осями и оглоблями и не послали друг другу «чорта», «подлеца» или «идола»…
После этого и вы и мещанин спокойно продолжаете свой путь. С пригорка возница начинает придерживать лошадей и направляет их мимо мостика, почему-то предпочитая вязнуть в трясине и плестись шагом; но скоро, – вспомнив, что мост этот принадлежит к числу повинностей, исполняемых натурою, – вы и сами оправдываете возницу, потому что всякая подобного рода штука в результате непременно постарается устроить вам какое-нибудь увечье или калечество. На этих-то пунктах, на этих-то лжеудобствах и вывихиваются руки, шеи, ноги; здесь-то ломаются ребра и сокрушаются кости… А поэтому мы крайне счастливы, что перебрались на другую сторону помимо моста. Медленно взбираемся мы на небольшую песчаную возвышенность и на самом высоком пункте этой возвышенности, на перекрестке двух дорог, натыкаемся на два маленькие креста простой, мужицкой работы. Стоят они на распутии одни-одинешеньки и говорят прохожему народу о какой-то загадке, и слишком уж страшный смысл этой загадки, неизвестно, впрочем, почему представляющийся таким, заставляет каждого прохожего постоять тут и покреститься…
– Не знаешь ли, брат, что это за кресты? – спрашиваете у возницы.
– Тут такие люди зарыты.
– Какие люди?
– Смертобивцы…
– Кого же они убили?
– Да они сами…
Не обладая слишком размазистой фантазией записного литературщина, можно почти мгновенно сварганить по этому случаю забористую драму из народной жизни, – стоит только обставить жизнь этих смертобивцев разными прискорбиями; тут рисуются изверги-старосты, прелестная Офелия-Фекла, грустно ободряющая возлюбленного фразою такого, например, рода: «Еще розы не перестали цвести – не горюй, ненаглядный Вахрамей», и проч.; словом, все что угодно; и если в эпилоге, когда стонущие решаются выпалить в свои лбы, прибавить заунывную песню и заставить хоть полминуты пошуметь темный бор, – штука выйдет весьма потрясающая… Героев можно, впрочем, для большей народности, втащить на осину и тут покончить с ними; выйдет картина еще капитальнее…
– Так ты говоришь, что тут самоубийцы? – спрашиваете вы извозчика опять.
– Так точно…
– Не знаешь ли ты, брат, отчего это они?
Извозчик повертывается к вам и произносит:
– Да вот, изволите видеть, отчего: первое дело они это напились, как, можно сказать, свиньи, ды ночью-то и врюхались в это самое болото, в полую воду!.. Так совсем с лошадью.
– А-а!..
И тут разрушается такой удачный, только что состроенный план народной драмы.
Скоро ваше внимание привлекает толпа народу, разлегшаяся на границе леса, в тени. Не хорошо постигая, в чем дело, вы обращаетесь снова с вопросом:
– Что такое?
– Мижавые, – говорит возница и потом прибавляет: – которые мижують… Ишь народу-то наволок! – недовольно заключает он.
– А что?
– Да как же: ему по закону-то трех бы человек надыть, а он целую деревню томит попусту…
Подъехав, вы действительно различаете целую кучу людей, посреди их стоит около инструмента таксатор[1]; по полю шагает мужик с шестом в руке, на котором вверху привязан белый лоскут.
– Зачем же он их томит-то?
– Да, стало быть, для него это много лестней…
Межевой, завидев вас, и в особенности то, что вы так пристально смотрите на него, мгновенно забирает себе в голову изумить вас своими подвигами и так разукрасить их, чтобы вы откровенно сознались, что тут ровно ничего не смыслите, но что он, напротив, все это до тонкости понимать может. С этою целию он вдруг приободряется, засучивает, словно для драки, рукава, в то же время громогласно командуя мужикам с шестами, произносит какое-то мудреное слово, которое вы только слышите, но понять может исключительно он один, и, упершись засученными руками в бока, прищуривает один глаз и прицеливается другим в щелку алидады