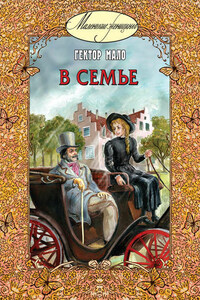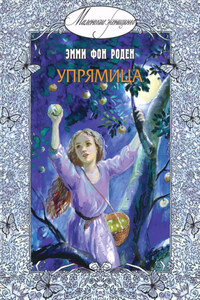У Берсийской заставы, как это часто бывает по субботам в середине дня, скопились деревенские экипажи. Повозки с углем, телеги с бочками, возы с сеном и соломой длинным хвостом тянулись в четыре ряда вдоль набережной, дожидаясь акцизного досмотра и торопясь поспеть в город накануне воскресенья.
Среди этой вереницы выделялась странная, смешная и даже жалкая на вид повозка, напоминающая фуру странствующих комедиантов, да и то из самых немудреных: на легкий деревянный остов-раму был натянут грубый холст, верх сооружен из просмоленного картона, и все это катилось на четырех низких колесах.
Прежде, видимо, холст был выкрашен в голубой цвет, но со временем он так истерся, засалился и обтрепался, что о его первоначальном цвете оставалось только догадываться. Надписи на четырех сторонах фуры тоже можно было скорее разгадать, чем прочитать: от первых трех надписей – на греческом, немецком и итальянском языках – остались лишь последние две-три буквы, но четвертая, сделанная по-французски, еще почти новая, красовалась полностью: Photographie[1]. По этим надписям, как по багажным ярлыкам, можно было определить, через какие страны пролегал путь старенькой повозки.
В фуру был запряжен осел. С первого взгляда казалось невероятным, чтобы это существо могло притащить повозку из таких дальних краев: до такой степени ослик был тощ. Но, приглядевшись внимательнее, можно было заметить, что чрезмерная худоба его была лишь следствием усталости и голода. Несмотря на все эти невзгоды, породистое животное, с шерстью пепельного цвета, с черными полосами на тонких стройных ногах, стояло, бодро подняв голову, с плутоватым, даже, пожалуй, озорным блеском в глазах. Сбруя его была вполне под стать экипажу: вся перештопанная и связанная во многих местах веревками. Впрочем, ее почти не было видно, потому что спину осла почти сплошь закрывали ветви, нарезанные по дороге для защиты его от солнца.
За осликом присматривала девочка лет двенадцати, сидевшая неподалеку на краю тротуара.
Внешность девочки была довольно необычной. Смуглый цвет лица резко контрастировал со светлыми волосами. Черты ее лица свидетельствовали о кротости и мягкости, но взгляд продолговатых черных глаз был серьезен, а очертания рта решительны. Поза девочки была свободна, непринужденна. Фигура под жалкой поношенной кофточкой некогда черного, а теперь какого-то неопределенного цвета казалась гибкой и стройной. Крепкие ноги прикрывала нищенская рваная юбка.
Осел стоял как раз за высоким возом сена. Уйти он никуда не мог, но зато временами украдкой пощипывал сено с воза и, по-видимому, сам отлично понимал, что так делать не следует.
– Паликар, ты уймешься?
Осел каждый раз с виноватым видом опускал голову, но, прожевав украденный клочок, с голодной поспешностью отщипывал новый, мигая при этом глазами и поводя ушами.
После того, как девочка побранила его раза три или четыре, из фуры послышался голос:
– Перрина!
Девочка встала, откинула занавеску и вошла в фуру, где на тоненьком матраце лежала женщина.
– Что, мама?
– Что такое делает Паликар?
– Таскает сено с воза, который стоит впереди нас.
– Не давай ему.
– Он голоден…
– Голод не дает нам права брать чужое. Если возчик рассердится, что ты ему скажешь?
– Хорошо, я отведу Паликара подальше.
– Разве мы еще не скоро въедем в Париж?
– Приходится ждать акцизных[2].
– Долго ли еще?
– Бедная мама, тебе хуже?
– Нет… так… ничего… Это от духоты… – задыхающимся голосом произнесла женщина.
Любящая мать только хотела утешить дочь этими словами, на самом же деле ее состояние было очень тяжелым. Ей не исполнилось и двадцати семи лет, а она умирала от жестокой чахотки, которая уже перешла в последнюю стадию. Она едва дышала, силы ее были на исходе, жизнь едва теплилась в ней. При этом лицо ее хранило следы замечательной красоты, дочь была похожа на нее.
– Принести тебе что-нибудь? – спросила Перрина.
– Что же?
– Тут есть лавки. Хочешь, я куплю тебе лимон? Сейчас сбегаю.
– Нет, не нужно. Лучше поберечь деньги, у нас их так мало. Ступай к Паликару и не давай ему воровать сено.
– Это нелегко.
– Смотри за ним.
Девочка вернулась к ослику, и так как в это время очередь слегка продвинулась, ей удалось поставить Паликара настолько далеко от воза, что он уже никак не мог дотянуться до сена.
Сначала ослик возмутился и хотел во что бы то ни стало добраться до воза, но девочка успокоила его ласками и нежными словами.
Теперь ей уже не надо было так внимательно следить за ним, и она могла понаблюдать за происходящим вокруг. По реке сновали баржи и лодки; привезенные товары выгружали и сваливали на пристань; поезда окружной железной дороги то и дело проносились по мосту, своды которого заграждали вид на Париж, окутанный темной дымкой; акцизные чиновники расхаживали между экипажами, то протыкая возы с сеном и соломой длинными копьями, то взбираясь на телеги с бочками, причем каждая бочка просверливалась буравчиком; акцизные подставляли под струйки вина серебряные стаканчики, отпивали и сейчас же выплевывали.