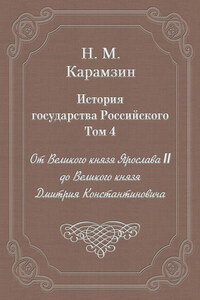Беру несколько писем, полученных мною за истекший год из разных мест России, и делаю из этих писем выдержки, будучи уверен, что они скажут читателю больше, чем могу сказать лично я.
«Я проделал путешествие от Ярославля до Астрахани, от Астрахани до Казани, Перми и Нижнего. И что же мог бы я сказать: привело это меня в лучший порядок, успокоило, выяснило мне «настроение страны», ознакомило с нею? Не знаю, может быть, рано ставить такие вопросы, преждевременно отвечать на них, – поэтому или почему-то другому, – но я не чувствую, что могу сказать да или нет, и мне не кажется, что теперь я знаю родину лучше, чем знал её год назад. Я поражён, подавлен пестротою и сумятицей вынесенных впечатлений, мне кажется, что душа моя окунулась в самые разнообразные краски и стала неестественно пёстрой. Но почему-то в памяти остались наиболее цельными картинки смешные, весёлые, хотя вы знаете, что я веселиться и смеяться не предрасположен. Это странные картинки: от них веет чем-то, что я определил бы словами – спокойное упование на возможность лучшего. Вот на корме парохода Каменских кучка разных людей слушает слепого гармониста и мальчонку-певца; гармонист играет хорошо, мальчик поёт скверно, публика слушает с удовольствием, но является матрос, должно быть, даже боцман, и орёт: «Опять про революцию петь? В воду сошвырну слепого чёрта!» Музыкант послушно перестал играть, мальчик спрятался за спину его, а публика объявила ненавистнику революции, что про «неё» не пели, нет! Он ушёл, и тотчас же какой-то рыжий человек в пиджаке попросил музыканта: «А это, что поётся про революцию, ну-ко, как это?» Публика поддержала его: «Не бойся, мы заслоним, заступимся, не велика он власть!» – «Пой, Яша», – равнодушно говорит слепец, и мальчик с жаром отчеканивает: «Отречёмся от старого ми-ира», – а публика довольна, и рыжий одобряет: «Хорошо, ребята! Здорово, мать честная!»
В Нижнем на пристани грузчики читают «Русское слово», подходит речной полициант, присаживается на корточки и спрашивает: «Про Думу есть?» – «Ну, чай, Дума давно распущена». – «Совсем?» – «Нет, на каникулу, на лето». – «Это совсем напрасно распускают их, материных детей!» – «Летом думать жарко». – «Пусть попреют!» – «Мы вон за гроши целый день жаримся». – «Н-да, летечко бог послал». – «Гляди, ребята, – говорит полицейский, – это опять к чему-нибудь, обязательно так! Шумит народ опять!» – «Ну, где там! – возражает солидный широкобородый грузчик. – Задавили народ до конца». – «А вот поглядим, – спорит страж, возбуждаясь. – Вот как начнётся война с китайцем, вот те и пойдёт опять! Чай, мы живые али нет?»
А вечером, в рубке первого класса, полная и сытая женщина, очевидно, купчиха, мечтает: «Подождите, поглядит, поглядит Европа, да и скажет: «Нет, господа, так нельзя. Какие же это порядки?» И прикажет…»
Видите ли – всё это очень забавно и, если хотите, отрадно: люди думают, беспокоятся, ждут, но – не от себя ждут, а от китайца, от Европы и – от «Петра Михалыча». О Петре Михалыче говорили в Астрахани, в трактире, какие-то ремесленники или приказчики, говорили тихо и с большими надеждами на него. «Он – законы знает, он им нос утрёт!» «Они» – это, как я понял, люди, закрывшие профессиональный союз или что-то в этом роде, а он, Пётр Михалыч, явится и «напечёт им колобков на лысине». Блажен, кто верует в Китай, Европу и прочие внешние силы, а я – не могу.»