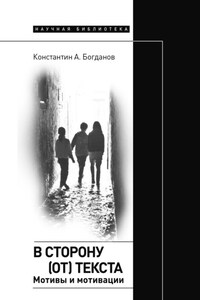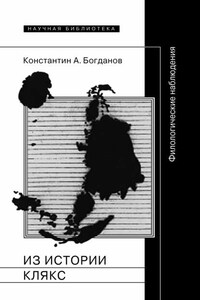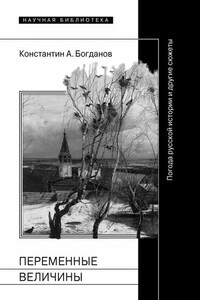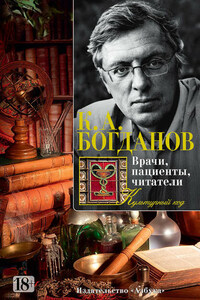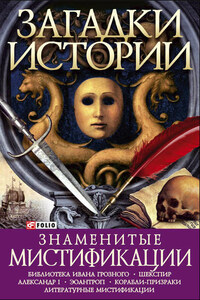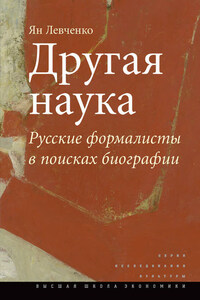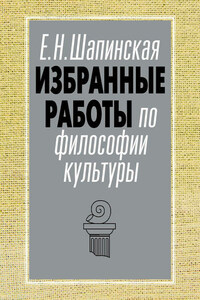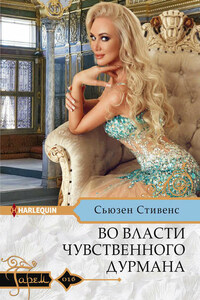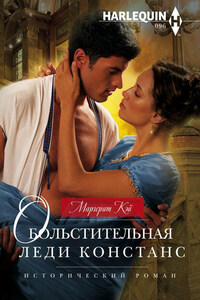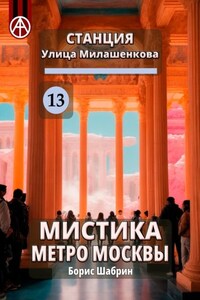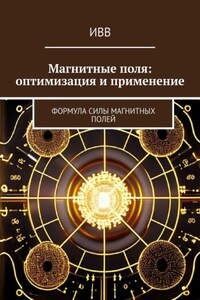Сходства различий
Вместо предисловия
Я не сразу придумал название этой книжки – и не уверен, что придумал наилучшее, – чтобы объединить статьи, посвященные, казалось бы, разным темам, но общие в исходном для них соображении о том, что примеры из истории социальной и культурной жизни, как и примеры из литературы и других видов искусства, вызывают определенные «внетекстовые» эмоции, но тем самым мотивируют появление новых текстов. Слова, вынесенные в название, – понятия гуманитарных наук, но, как и другие гуманитарные термины, они остаются словами, допускающими их уточнение и переозначивание. Примером тому служит и сама история понятий как научная дисциплина (Begriffsgeschichte), подтверждающая давнее наблюдение, что научные понятия не только обозначают собою нечто, но и работают как инструмент коммуникативного согласия на их использование в том или ином определенном значении. А это значение меняется в зависимости от разных обстоятельств, и прежде всего – от конвергенции и дивергенции самих научных дисциплин, осложняющих одни и те же, казалось бы, понятия различными смысловыми связями в зависимости от технических и, в частности, риторических задач – констатации или, наоборот, вопроса, сомнения или объяснения и т. д.
Свою задачу я видел в проблематизации различного как сходного. Чем определяется внимание к разному и память о разном? Что связывает разное – разные тексты, разные явления, разные события? Чем в этих случаях мотивированы интеллектуальные и эмоциональные предпочтения? Если предположить, что интерес к чему бы то ни было имеет смысл, то у него должны быть свои причины и следствия. В конечном счете характер любой интерпретации предопределяется ее прагматическим целесообразием – а значит, усилиями, не исключающими сторонних альтернатив. Поэтому в своем исследовании фактов, событий, произведений и биографий я интуитивно ориентировался на то, что определяет мою собственную память и рефлексию о прошлом и посильную заботу о настоящем – в науке, быту, мире социальных (реальных и воображаемых) отношений.
Большинство статей, составивших эту книгу, уже печатались, но для настоящего издания все они были существенно отредактированы и дополнены новым материалом.
Как и прежде, я глубоко признателен Ирине Прохоровой за возможность издания очередной книги в любимом «НЛО». Я благодарю Татьяну Тимакову и Ольгу Панайотти за внимательную и вдумчивую редактуру текста. Я не называю здесь всех тех, кто помогал мне советами, критикой и подсказками – это был бы длинный список. Всем им, моим друзьям и коллегам, искреннее спасибо!
Прагматика мотива и антропология «Жизненного мира»
…есть нечто, что всегда движет движущееся.
Аристотель. Метафизика
Мотив vs мотивация?
Русский язык разводит понятия мотива и мотивации. Первое чаще встречается в филологии, искусствознании, музыковедении, биологии, второе – в психологии, социологии, экономике и праве, но этимологически и содержательно эти понятия связаны (оба происходят от лат. movere – двигать, побуждать), обозначая собою основание или обстоятельства какого-то действия в ситуациях речи, письма, рисунка, звука, процессе биологической эволюции или в выборе социально-психологической позиции. Можно было бы заметить, что понятие «мотивация» преимущественно (то есть в тех дисциплинах, где оно употребляется терминологически чаще и коммуникативно привычнее, чем слово «мотив») обозначает причину или сцепление причин для какого-то действия, а мотив – прежде всего в филологии и искусствоведении – некоторый «факт», элемент, деталь текста или изображения. Но строгого различения в этих случаях, впрочем, нет (как это имеет место, например, в английском языке: motif vs. motive/motivation), иногда «мотив» синонимичен «мотивации» (так же – в немецком и французском языках) – и это как раз тот случай, который заставляет нелишний раз задуматься о неслучайности их синонимии.
В разных дисциплинах оба эти понятия традиционно подразумевают определенную «простоту» своих формальных признаков – но они же дают повод к уточнению их ситуативного и контекстуального обособления. В результате арсенал терминов, дополняющих сегодня эти понятия, непрестанно множится и уже по одному этому демонстрирует разнообразие возможных критериев, а лучше сказать – ориентиров в понимании того целого, деталями которого они являются. Говоря иначе: мотив и мотивация – это, с одной стороны, то, что останавливает внимание в пространстве подвижной действительности, то, что придает умозрительному и/или очевидному беспорядку причинно-следственную определенность, наделенную структурным и/или смысловым значением. А с другой – то, что высвечивает подвижное соотношение детали и целого.
Основной проблемой в этих случаях является соотношение формальных и содержательных примет. Но что считать критерием, формально достаточным для того, чтобы увидеть в нем и нечто содержательно необходимое? Каковы границы мотива и/или мотивации? Отвлекаясь от психологических аргументов в размышлении о таких границах (например, от того факта, что эмоции имеют зонную структуру и уже потому затрудняют разговор об однозначности тех слов, которыми мы обозначаем и сами эти эмоции)[1], мне, как филологу, здесь удобнее сослаться на работы, специально посвященные каталогизации мотивов в литературе и фольклоре. Грандиозным собранием такого рода в последнем случае остается шеститомный «Указатель мотивов народной литературы» Стита Томпсона (1955–1958), в котором под мотивами понимаются и ситуации, и действия, и отдельные персонажи, и предметы – все то, что подразумевает традиционно связываемые с ними истории. Сам Томпсон признавал, что применительно к повествовательной традиции понятие мотива всегда используется «в очень вольном смысле», поскольку «включает в себя любые элементы повествовательной структуры»[2]. Критикуя Указатель Томпсона, исследователи настаивали на необходимости более четкого определения. Ведь, и в самом деле, если мы имеем дело с «любыми» элементами повествовательной структуры, то что считать такими элементами – тему, рему, фонетические особенности текста, знаки препинания или, может быть, числа? Интересно, что в размышлении о собственно сказочных мотивах Томпсон был более категоричен: мотив в данном случае определялся им как «наименьший элемент в рассказе, имеющий силу сохраниться в традиции. Чтобы иметь такую силу, в нем должно быть что-то необычное и поразительное»[3]. На первый взгляд, такое определение лучше соотносится с изучением мотивов, как своеобразных «атомов» текста, но на поверку и оно противоречиво: получается, что единственное, что объединяет мотивы, – это их формальная атомарность, но при этом они содержательно различны, поскольку каждый из них необычен и поразителен «чем-то», то есть необычен и поразителен по-разному.