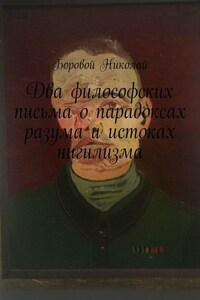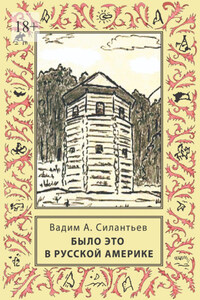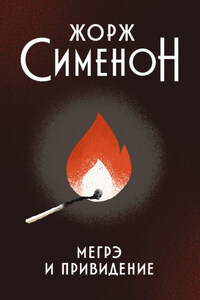…В это туманное и немного пасмурное утро 1 сентября 1939 года, у профессора философии Ягеллонского университета Войцеха Житковски, на своем «Мерседесе» неторопливо въезжавшего в со стороны дач в краковское предместье Клепаж, было не просто хорошее или даже отличное настроение. Говоря откровенно – пан профессор был просто счастлив, одновременно по детски и по взрослому; словно бы расстворившись душой и дородным, мощным телом в ощущении счастья и теплоты, покоя и чуть ли ни вселенской гармонии, он никуда не хотел спешить и потому пустил мерно и исправно урчащую машину как мог медленно. Всё радовало его – и довольно густой туман, и не торопившиеся разбегаться под властью вышедшего солнца тучи, неожиданно заволокшие город и окрестности еще вечером, и необычный для первого дня краковской осени, затекающий в приоткрытое окно и чуть пробирающий холодок, и мысли о предстоящем дне, знаменовавшем новый рабочий год. Эти мысли, впрочем, как и подсовываемое памятью указание на назначенную через пару часов торжественную церемонию, где ему предстояло конечно же выступить, а после – заседание ученого совета, наполняли сознание пана профессора как бы лениво и «исподволь», не затрагивая его внимания и переживаний. Целиком коридоры университетских зданий студенты заполнят оживленным, звенящим разговорами, бурлящим эмоциями потоком только через месяц. Однако, по давно сложившейся традиции, сегодня в Университете должны состояться несколько торжественных мероприятий, на которые приглашены и «новобранцы» – новоиспеченные студенты. Для них, «новобранцев» нескольких факультетов, намечены две лекции – преподаватели должны ближе познакомиться с будущими студентами, очертить перед ними предстоящую на академический год работу. Так повелось с давних времен. Ожидает встреча с коллегами, большую часть которых он не видел в летние месяцы. Еще неделя – и нерадивые лентяи из числа старшекурсников потянутся пересдавать «долги», неудачи на предыдущих экзаменах, потихоньку начнет бурлить привычная университетская жизнь с ее рутиной и радостями, творческими событиями и официальными церемониями, дискуссиями и интригами. Однако, мысли и «исподволь» настигающие воспоминания обо всем этом не затрагивали пана профессора и не способны были хоть сколько-нибудь поколебать заполнившее его существо, удивительное и загадочное чувство. Он решительно не желал в это утро ни чем тревожиться и ни о чем беспокоиться, даже в самых дальних мыслях, чтобы не приведи боже не дать расплескаться тому полностью охватившему, расстворившему его в себе ощущению счастья, покоя и гармонии, кажется полного совершенства мгновения, о котором недостижимо мечтал и молился гетевский Фауст – такому редкому чувству для сорокалетнего человека, философа не образованием и профессией, а самой своей сутью, рано обретенной и обильно приправленной жизненными испытаниями трагической мудростью. И даже откровенная банальность события, которое с самых первых мгновений сегодняшнего пробуждения наполнило душу профессора этим чувством счастья, согревавшим его в аккуратно прорезающей туман машине, не побуждала его привычно рефлексировать и иронизировать над собственными переживаниями. Профессор был совершенно счастлив, счастлив чувством покоя и безопасности, расстворенности в мире и мгновении, как бывает счастлив самый обычный человек наверное в любом месте земли. Счастлив самым что ни на есть простым.
Видит бог, которого наверное нет – у пана Войцеха Житковски были причины ощущать себя счастливым этим утром.
Собственно, если перейти сразу к сути, то причина счастья пана профессора Войцеха Житковски была и впрямь очень банальна – минувшей ночью, в уютном, обросшем старым садом и согретом огнем камина домике в районе дач, приобретенном профессором три года назад, как раз при получении почетной степени, его аспирантка Магдалена Збигневска, двадцати восьмилетняя красавица, подарила ему себя. Да-да, именно «подарила», в самом высшем и знаете ли чистом, литературном смысле этого слова – как дарит, со всем чудом истинной страсти и слияния отдает себя любимому мужчине небывало красивая женщина.
Трудно передать сонм чувств и переживаний, которые разгорались в душе пана профессора под разлившимся ощущением счастья и грозили, словно бы предвкушали прорваться, захватить не только его душу, но и ум ближе к обеду, когда ему вновь предстоит увидеть выспавшуюся и приехавшую в университет Магдалену – Магдуш, как он совсем по детски и трогательно шептал ночью, целуя ее, обнимая ее, прижимая ее к себе, иногда чуть не плача…
Однако – еще труднее понять и передать, что означало в жизни пана профессора это событие, обретение настоящей близости с необычайно красивой, молодой, но уже такой зрелой и умом, и духом женщиной, так просто и искренне подарившей ему себя. О, пан профессор Войцех совсем, знаете ли, не «сладострастник», совершенно нет, даже наоборот, в том-то и дело! То событие, которое сделало по настоящему счастливым профессора, умевшего с экстазом рассуждать о платоновских диалогах, увлекать аудиторию загадками кантовской гносеологии, с беспощадной иронией «разбирать по косточкам» новомодные социологические теории, вдохновенно раскрывать перед студентами тончайшие философские смыслы барочных полотен и бетховенских симфоний, в академическом кругу Кракова было как раз-таки вовсе не редкостью. Собственно – заводить романы, и подчас длительные с молодыми аспирантками, было довольно принятым в доцентском и профессорском кругу, даже считалось эдаким правилом «хорошего тона» и поступком, без которого настоящий поляк не может ощущать достойного «шляхетского» прошлого. В этом всё и дело. Громадный ростом, толстоватый сорокалетний добряк пан профессор, со всегда гладко выбритым, по десять раз в день и из-за самых разных причин заливающимся краснотой широким лицом, сочетающий в себе гневливую, зажигающуюся во мгновение и отдающую фанатизмом экспрессию холерика, шквальную, сохранившуюся и до сорока лет энергию сангвиника, глубоко застывшую в выражении глаз, невыдуманную меланхолию человека, знающего о смерти и видящего разумом истинную, зачастую уродливую и трагическую суть вещей, с давних времен, как и полагается истинному философу, совсем не таков, совсем!.. Грехи молодости – да кто же не грешил во времена оные и как мог не попытаться бросить себя в соблазны светской жизни еврейский юноша, отвергнутый родителями и сбежавший из еврейского квартала! – закончились очень быстро. Вместе с горечью разума и духовной зрелости, наступившей в существе будущего профессора Ягеллонского университета совсем рано, даже прежде, чем он в этом университете стал студентом, как-то пропало и упоение теми вещами, которые в таком возрасте не могут не увлекать и не казаться красотой, поэзией и сутью самой жизни, дыханием лучших лет, еще не омраченных бременем ответственности и разума. Однако же, оное бремя настигло Войцеха (урожденного Нахума) неподобающе рано, что сделало его будто старым и по странному отдаленным посреди компании брызжущих жизнью и оптимизмом молодых людей, заставило сменить факультет права на философский и перестать упиваться столь свойственными этому периоду жизни человека побуждениями. Очень молодым, он вдруг раз и навсегда понял, словно бы беспрекословно, неумолимо почувствовал – он не может слиться с женщиной, не испытывая к ней ясного, человеческого чувства любви, а делая так, поступает против самого себя. Вместе с мудростью и трагизмом разума, глубинной печалью зрелого и осознавшего себя духа, в жизнь будущего пана профессора, отвергшего свою общину, отвергнутого и проклятого в ответ ею, яростно боровшегося за признание в академической среде, пришло одиночество. Но вместе с тем – книги. Вдохновение. Творчество. Свою первую книгу пан Войцех Житковски написал в двадцать пять, вскоре закончил и издал вторую. Тридцатилетие ознаменовалось получением докторской степени и написанием книги по философии искусства. В тридцать пять, захваченный не столько идеями Ницше, сколько самими очерченными зловещим кумиром времени горизонтами мысли, он увлекся философией музыки и спустя два года, получив профессорскую степень, выпустил книгу о философском символизме в европейской музыке 19 века – она принесла ему известность в определенных кругах, она же – о судьба! – в конечном итоге привела в его объятия минувшей ночью красавицу Магдалену. Сам Теодор Адорно, баловавшийся сочинением того, что пан Войцех отказывался признавать музыкой, отозвался на его книгу, вступил с ним в полемику по главным для его труда идеям, что конечно не могло не льстить. Одиночество. Оно очень рано увлекло и захватило его, стало залогом его небывалой плодотворности. Говоря по чести – сжившийся и свыкшийся с ним, никогда не тяготившийся им, но всегда ощущавший его нехватку, нашедший в нем не только испытание, но условие, как часто подмечал для себя, настоящей и творческой жизни, пан профессор буквально до последнего времени был уверен, что оно – отпущенная до самого конца, обещающая оказаться непреодолимой судьба. Многие и многие годы он говорил себе – я никогда не любил женщины, никогда не встречал той, с которой мог бы разделить судьбу и свой мир или хотя бы представить подобное, и увы – это была чистая правда. Пан профессор Войцех Житковски знал, что такое желать любить, мечтать то ли о любви, то ли о той дымке совершенной разделенности и слитности с кем-то другим, которую мы часто обозначаем словом «любовь», но не знал, что такое любить женщину. В нем никогда не рождалось решимости со всей внутренней честностью и уверенностью в собственных чувствах, с предельной ясностью и подлинностью таковых сказать какой-нибудь из множества окружавших его женщин «я люблю тебя». Он просто никогда не любил женщины, не знал этого чувства – что же, собственно, тут непонятного? Ведь не воспринимать же всерьез все эти «новомодные» теории, которые он с таким неподражаемым юмором «разбирает по косточкам» на лекциях, зачастую вызывая неудовольствие студентов, норовящих ими увлечься… Нет любви – и нет, что тут поделаешь. Любовь, настоящая любовь – редкий цветок, ее нужно ждать и чаять, но посетит ли она жизнь и судьбу человека или минет стороной, совершится или же нет таинство встречи – жестокая и не подвластная человеку прихоть случая. Соединиться с кем-нибудь без любви и внутренней близости, словно выполняя работу и давно отлаженные, кем-то написанные роли, для дела создания семьи и продолжения рода, как принято в покинутой им в ранней молодости общине предков, опутать себя цепями заботы и необходимости – о, подобное было ему ненавистно, казалось смертью и с самых ранних лет, лишь представляя себе это, он начинал испытывать удушье и ярость, всё это казалось ему механической и бессмысленной жизнью, в которой не оставлено место для него самого, для главного в нем… Все эти «новомодные» властители умов, от Маркса до Фрейда – о, как же плоско и слепо они мыслят человека, существо человека, человеческую душу… как мало на самом деле знают и понимают они, мнящие себя обладателями «научной истины», раз и навсегда верной, как презирают они философскую мудрость прошлого, но сколько истины именно в ней, в ее подчас туманных символах и указаниях, а не в ставших лозунгами «научных теориях»!.. И когда пан профессор рискует утратить популярность у студентов, позволяя себе иронизировать над всеми этими «теориями» на лекциях, он не испытывает колебаний… Кто не думает о детях… но там, где нет любви – ничего нет и быть не должно… И почти до самых сорока лет не встретивший любви, не различивший взглядом и разумом женщины, которая была бы ему по настоящему близка духом или хотя бы такой показалась, пан профессор, громадного роста холостяк, басящий и читающий ставшие легендарными лекции, автор многих, обретших известность трудов, был искренне уверен, что до конца дней ему суждено прожить одиноким. И смирился с этим. Почти. До странного, кажущегося сном или фантазией чуда по имени Магдалена Збигневска.