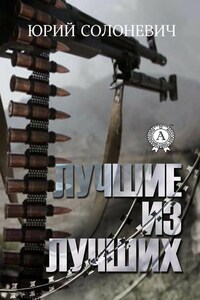Она продвигалась вперед медленно, очень медленно, мучительно медленно.
Каждый новый шаг во тьму давался ей с трудом. Руки вытянуты прямо перед собой и ощупывают мрак, одежда намокла и липнет к телу, волосы словно приклеились к голове… Примерно на полпути она остановилась, посмотрела назад и почувствовала себя пловцом в темном необозримом океане.
Рама окна, через которое она проникла в помещение, отсвечивала в темноте и казалась обрамлением картины: сбоку в ней поблескивало разбитое стекло, а остальные осколки валялись на полу под окном. Она услышала, как дождь стучит по крыше, отбивая свой неустанный механический ритм, а потом в ночном небе блеснула молния, затем еще одна. В эти мгновения внутренность помещения озарилась вспышкой света, помогая Ребекке понять, куда она попала. Прямо сейчас ей нужна была еда и смена одежды. Но в первую очередь – зеркало, игла и крепкая тонкая нить, чтобы зашить рану на лбу, потому что сейчас кровь уже не только попадала ей в глаза, а свободно текла по лицу.
Ветер налетел и сотряс здание до основания.
«Мне страшно, мне больно, – пронеслось у нее в голове. – Но хуже всего не это – я здесь одна. Может, стоит прекратить борьбу?» – От этой мысли горло у нее перехватило. Да, можно просто лечь на пол и сдаться.
Она крепко зажмурилась, отгоняя навязчивый внутренний голос, и при следующей вспышке молнии решительно двинулась в заднюю часть помещения. Ударилась о стеллаж или полку, сбила на пол какие-то предметы, но нащупала то, что ей должно пригодиться. Выпрямилась, сжимая в руках фонарик.
Обычный карманный фонарик.
Она нажала на кнопку, и – о чудо! – фонарь зажегся.
В его неверном белом свете ей удалось разглядеть, что помещение, в котором она оказалась, совсем невелико, всего-то футов тридцать[1]в длину, тогда как в темноте оно казалось ей огромным.
Она схватила с ближайшей полки шоколадный батончик, разорвала упаковку и впилась в него зубами, пытаясь утолить голод. Но тут кровь из раны вновь полилась ей в глаза, застилая поле зрения, и она двинулась к другой стене, где на полке выстроились коробочки с медицинскими пластырями. Только оказавшись совсем рядом, она поняла, что здесь есть и аптечка для оказания первой помощи, а в ней то, что ей нужно – ножницы, антисептик, стерильный бинт, маленькие фиксирующие пластыри. Но иглы и нити не было…
«Неужели и тут неудача?» – успела подумать она, но взгляд ее успел выхватить из темноты то, что могло пригодиться.
Рыболовные принадлежности.
В застекленной витрине лежали крючки, а на прилавке – несколько наборов лески. Она нашла самую тонкую, зажала в руке, вытащила зажигалку из держателя рядом с кассой и вновь открыла аптечку.
Рядом нашлось зеркало на крутящемся стенде с солнечными очками. Она смахнула очки одним резким движением и наклонила стенд так, чтобы зеркало находилось на уровне глаз. Отмотав часть лески, закрепила ее на рыболовном крючке, а потом ножницами из аптечки отхватила примерно шесть дюймов[2]. Задержала дыхание, приблизила лицо к зеркалу и наклонила голову так, чтобы рана над правым глазом была хорошо видна. Она уже видела ее в отражении в лобовом стекле у себя в машине пару часов назад – нет, наверное, с тех пор прошло часа три-четыре, не меньше… – но тогда грязь скрывала серьезность раны.
Странное чувство нереальности происходящего переполнило ее.
«Почему это случилось со мной?» – прошептала она, и ее слова потонули в шуме дождя. Она простерилизовала острие крючка в пламени зажигалки, попыталась мысленно настроиться на то, что ее ожидает, и от этого глаза ее предательски наполнились слезами. Соленая влага пополам с кровью потекла по лицу, оставляя на грязных щеках розоватые борозды, извилистые, как дороги местного значения на картах.
Хирургические швы она могла бы наложить даже во сне, и не это пугало ее.
Дело не в том, что сейчас ей предстоит самой шить кожу у себя на лице. Все гораздо хуже.
«Господи, пусть здесь окажется еще хоть одна живая душа, – пробормотала она, борясь с подступившими рыданиями. А потом поднесла крючок к лицу, чувствуя, как руки у нее ходят ходуном, и стараясь унять эту не вовремя возникшую дрожь. – Я не хочу, не хочу, не хочу оставаться одна в этом проклятом месте».
«Даже мертвые умеют говорить».
До самой своей смерти отец Ребекки не уставал повторять эту фразу. Он был уже очень болен, и она не придавала большого значения его словам. В те несколько последних месяцев его жизни, когда Ребекка много времени проводила у постели больного, она видела, как слабеют его тело и дух. Считала его слова бессвязным старческим бредом. Наблюдала, как когда-то упругая кожа стала бледной и прозрачной, вся в прожилках синеватых вен. Казалось, что телесная оболочка того, кто сумел воспитать и вывести в люди всех троих своих детей, истончается и исчезает.
В такие моменты Ребекка гнала от себя настоящее и цеплялась за образ отца, каким он был до болезни. Его дети всегда видели в нем поддержку и опору, того, кто связывает их семью воедино. Иногда отец вспоминал, каким бесшабашным юнцом он отправился на войну во Вьетнам, но Ребекка и ее братья не могли даже представить себе такого папу. Пока они росли, он редко выходил из себя, даже голос почти не повышал. Можно сказать, что единственным импульсивным поступком, совершенным Генри Мерфи до их рождения, была женитьба на женщине, с которой он был знаком всего три месяца.
В то время он находился на военной базе Королевских ВВС Великобритании в Лейкенхите, где разместили солдат армии США. Кембридж был примерно в часе езды от базы, там-то Генри и встретил Фиону Кэмбервелл. Ей было двадцать четыре: простая девушка из английской провинции, никогда в жизни не уезжавшая дальше Питерборо и совершенно очарованная молодым американцем из самого что ни на есть Нью-Йорка.
Через год после свадьбы у них родился Джонни, старший брат Ребекки. Потом, меньше чем через два года, появилась на свет и сама Ребекка. Генри вышел в почетную отставку из армии и поступил в полицию Кембриджшира. Он страстно полюбил свою работу, хотя был всего лишь патрульным.
Но дома дела у него обстояли не слишком хорошо.
Отец Ребекки никогда не распространялся о том, что именно происходило между супругами в эти последние годы их брака. Однако результат был известен: ранним крещенским утром 1985 года, когда елка еще поблескивала мишурой в их гостиной, а праздничная гирлянда вспыхивала и гасла в окне, Фиона ушла из дома. В то время Джонни было пять лет, Ребекке три года, а самому младшему Майку всего полтора. В памяти старших детей осталась только яркая копна рыжих волос и отсвет матово-бледной кожи. Больше они свою мать не видели.