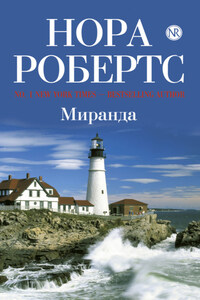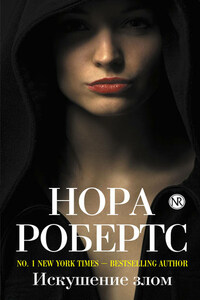Поэма, ныне предлагаемая мною миру, представляет из себя попытку, от которой я вряд ли могу ожидать успеха, в которой писатель с установившейся славой мог бы потерпеть неудачу, не причинив себе этим никакого посрамления. Это опыт касательно природы общественного духа, имеющий целью удостовериться, насколько еще, при тех бурях, которые потрясли нашу эпоху[1], среди людей просвещенных и утонченных, сохранилась жажда более счастливых условий общественной жизни, моральной и политической. Я старался соединить в одно целое напевность размерной речи, воздушные сочетания фантазии, быстрые и тонкие переходы человеческой страсти – словом, все те элементы, которые существенным образом составляют Поэму, и все это я хотел посвятить делу широкой и освободительной морали: мне хотелось зажечь в сердцах моих читателей благородное воодушевление идеями свободы и справедливости, ту веру и то чаяние чего-то благого, которых ни насилие, ни искажение, ни предрассудок не могут совершенно уничтожить в человечестве.
Для этой цели я избрал историю человеческой страсти в ее наиболее всеобщей форме, историю, перемешанную с волнующими и романтическими приключениями и взывающую, вопреки всем искусственным мнениям и учреждениям, ко всеобщим влечениям каждого человеческого сердца. Я не делал попытки восхвалять с помощью правил и систематических доказательств те внутренние побуждения, которым я хотел бы доставить торжество, взамен побуждений, ныне управляющих человечеством. Я хотел бы только возбудить чувства таким образом, чтобы читатель мог увидеть красоту истинной добродетели и был подвигнут к тем исследованиям, которые привели меня к моему нравственному и политическому кредо, являющемуся также догматом самых возвышенных умов мира. Поэма, таким образом, – за исключением первой Песни, чисто вводной, – является повествовательной, не дидактической. Это смена картин, в которых изображены рост и преуспеяния отдельного ума, стремящегося к совершенству и полного любви к человечеству; его старания утончить и сделать чистыми самые дерзновенные и необычные порывы воображения, разумения и чувств; его нетерпение при виде «всех угнетений, свершенных под солнцем», его стремление пробудить общественные чаяния и, просветительным путем, улучшить человечество; быстрые результаты такого стремления, приведенного к осуществлению: пробуждение великого народа, погрязшего в рабстве и низости, к истинному чувству нравственного достоинства и свободы; бескровное низложение притеснителей с трона и разоблачение ханжеских обманов, которыми эти люди были вовлечены в подчиненность; спокойствие торжествующего патриотизма и всеобъемлющая терпимость озаренного благоволением, истинного человеколюбия; вероломство и варварство наемных солдат; порок как предмет не кары и ненависти, а доброты и сострадания; предательство тиранов; заговор Мировых Правителей и восстановление чужеземным оружием изгнанной Династии; избиение и истребление Патриотов и победа установленной власти; последствия законного утеснения, гражданская война, голод, чума, суеверие и крайнее погашение семейных чувств; судебное убиение защитников Свободы; временное торжество гнета, этот верный залог конечного и неизбежного его падения; переходный характер невежества и заблуждения и вечная неизменность гения и добродетели. Таково в общих очертаниях содержание Поэмы. И, если возвышенные страсти, которыми я хотел отметить это повествование, не возбудят в читателе благородного порыва, пламенной жажды совершенства, глубокого и сильного интереса, которые связаны со столь благородными желаниями, пусть эта неудача не будет отнесена на счет естественного отсутствия в человеческом сердце сочувствия к таким высоким и воодушевляющим замыслам. Кому же, как не Поэту, надлежит сообщать другим наслаждение и воодушевление, проистекающие из таких образов и чувств, присутствие которых в его уме составляет одновременно и его вдохновение, и его награду!
Паника, подобно эпидемическому исступлению, охватившая все классы общества во время излишеств, сопровождавших Французскую революцию, мало-помалу уступает место здравому смыслу. Теперь уже более не верят, что целые поколения людей должны примириться с злополучным наследием невежества и нищеты лишь потому, что представители одной из наций, которая в течение столетий была порабощена и одурачена, не были в состоянии вести себя с мудростью и спокойствием свободных людей, когда некоторые из их оков частью распались. То, что поведение этих людей не могло быть отмечено не чем иным, как свирепостью и безрассудством, представляет из себя исторический факт, служащий наибольшею хвалою свободе и показывающий ложь во всем отвратительном ее безобразии. В потоке человеческих вещей есть некое течение, которое относит потерпевшие крушение людские надежды в верную гавань, после того как бури отшумели. Мне кажется, те, что живут теперь, пережили эпоху отчаяния.
Французская революция может быть рассматриваема как одно из тех проявлений общего состояния чувств среди цивилизованного человечества, которые создаются недостатком соответствия между знанием, существующим в обществе, и улучшением или постепенным уничтожением политических учреждений. 1788 год можно принять как эпоху одного из наиболее важных кризисов, созданных подобными чувствами. Влечения, связанные с этим событием, коснулись каждого сердца. Наиболее великодушные и добрые натуры участвовали в этих влечениях наиболее широким образом. Но осуществить в той степени ни с чем не смешанное благо, как этого ждали, было невозможно. Если бы Революция была преуспеянием во всех отношениях, злоупотребления власти и суеверие наполовину утратили бы свои права на нашу ненависть, как цепи, которые узник мог разъять, едва шевельнув своими пальцами, и которые не въедаются в душу ядовитою ржавчиной. Обратное враждебное течение, вызванное жестокостями демагогов, и восстановление последовательных тираний во Франции были ужасны, и самые отдаленные уголки цивилизованного мира это почувствовали. Могли ли внимать доводам рассудка те, кто стонали под тяжестью несчастий бедственного общественного состояния, благодаря которому одни разгульно роскошествуют, а другие, голодая, нуждаются в куске хлеба? Может ли тот, кого вчера топтали как раба, внезапно сделаться свободомыслящим, сдержанным и независимым? Это является лишь как следствие привычного состояния общества, созданного решительным упорством и неутомимою надеждой и многотерпеливым мужеством, долго во что-нибудь верившим, и повторными усилиями целых поколений, усилиями постепенно сменявшихся людей ума и добродетели. Таков урок, преподанный нам нынешним опытом. Но при первых же превратностях чаяний на развитие французской свободы пылкое рвение к добру перешло за пределы разрешения этих вопросов и на время погасло в неожиданности результатов. Таким образом, многие из самых пламенных и кротко настроенных поклонников общественного блага были нравственно подорваны тем, что частичное неполное освещение событий, которые они оплакивали, явилось им как бы прискорбным разгромом их заветных упований. Благодаря этому угрюмость и человеконенавистничество сделались отличительною чертою эпохи, в которую мы живем, утешением разочарования, бессознательно стремящегося найти утоление в своенравном преувеличении собственного отчаяния. В силу этого литература нашего века была запятнана безнадежностью умов, ее создавших. Метафизические изыскания, равно как исследования в области нравственных вопросов и политического знания, сделались не чем иным, как тщетными попытками оживить погибшие суеверия