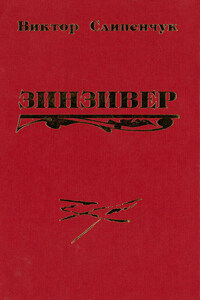Как укоризненно ни поджимал губы Франклин, три тысячи – хлопком сминаемой могучей зелени – разлетелись по степям Казахстана. В самом деле, не пытать же теперь человека? Слаб, вороват Антонов – видели это и раньше, когда назначали директором. Анашу курил или на лошадей делал ставки (на что еще в казахских степях можно спустить столько денег, не заключив ни одного договора на пшеницу?) – не признался, упал себе мирно с крутой лестницы макаронного цеха, пьяный, как подобает всем директорам, случайно упавшим с крутых лестниц.
Потом уже вскрылось и про транспортер для зерна, сильно подержанный, истертый и ржавый – Антонов купил как новый за ту же могучую зелень, и про целые закрома проросшей ржи…
В неурожай 2003-го, за пару месяцев до несчастного случая, появились легионеры у наших ворот – распашных, тугих, басами гудели их кованые петли. Широкий зев из стального полотна древней, довоенной еще плавки парил мельничным духом, поглощая зерновозы-тонары. Легионеры в серых камуфляжах запирали ворота на ночь, спускали собак и дремали на КПП. И только настойчиво сигналящим в темноте автомобилистам, заблудившимся в этих промышленных краях, являлись ночными силуэтами с автоматами.
«Легионер» – частная фирма, горстка лицензированных охранников, служба безопасности в миниатюре.
Полина разгребала дела сломавшего себе шею директора: сбывала муку из проросшей ржи, а больше меняла три к одному на городском хлебокомбинате – не зря верила в нужных людей. Еще Полина верила в учредителей: в Нижнем жили хозяева нашей мельницы. Четыре года никто не видел их в глаза, только уставшие голоса можно было услышать редкими телефонными разговорами; даже когда наш ростовский поставщик сгинул вместе с векселями и обещанным дешевым зерном и пару месяцев мне мерещились нижегородские номера на подъезжающих джипах, никто так и не явился.
– Разобрались сами, – сказала тогда Полина и показала мне скутеры и снегоходы в гараже – неоспоримое доказательство существования таинственных учредителей.
– Приедут, приедут на охоту! – говорила она в декабре, и мы ждали целую зиму, и снились снегоходы с нижегородскими номерами: в сосновых лесах загоняли лося.
Учредители не приехали, когда кончилось вдруг зерно в наших хранилищах и в бункерах ближайших элеваторов, и только Интернет предлагал мифическую пшеницу по семь рублей. Я звонила виртуальным продавцам в Краснодар, Саратов, Ставрополь, но чаще в Москву – факсы в ответ засыпали меня договорами от фантастических поставщиков (российских, узбекских и даже бразильских), и устно сообщалось о копейках за содействие. В основном просили по десять с кило, но, случалось, рассчитывали всего на одну-две: встречались скромные реалисты.
Степью, тюльпанами зацветающей, тянуло из флористических лавок. Самый конец марта, много-много воды – под ней медленно таяли целинные льды тротуаров. Я обходила разлившуюся стихию рынком, незнакомыми малоэтажными улицами. Весенними надорванными голосами лаяли псы, кроме псов в округе одни работяги (район автосервисов и мелкой промышленности), хлопающие дверями подъездов, обгоняющие, удаляющиеся черными и серыми спинами.
– Не ходи больше этой дорогой, – сказала Полина, разглядывая разбухший потолок над моим окном. – Весна, обострение у маньяков. Всякий сброд в этих местах.
Весна в моем кабинете – разводами на потолке: прорвется гипсокартон (а он прорвется, мутной талой водой потекут откосы: куда еще ей деться?) – начнется новая жизнь. Пока не решила – какая, но ею так пахнет из цветочных магазинов.
– Четыре бункера на городском элеваторе – серьезный товарищ, – сказала Полина, когда заехал в ворота (2004-ый год, зерновой кризис – впору первого встречного колхозника называть посланцем судьбы), вдавил ссыпавшуюся с последних тонаров пшеницу в снеговую жижу. Вороны возмущенно кричали в широкую спину, пока шел деревянным настилом, оранжевой курткой отражаясь в разлившихся водах.
Казах. Ядовита и пышна его оранжевая куртка. Кзыл-Ординский тюльпан в наших поволжских широтах.
«Болтун», – решила я сразу, как стал загибать свои толстые пальцы: считал элеваторы и железнодорожные составы с пшеницей. Регионами и целыми федеральными округами. Само собой, пальцев на всё не хватило.
Шеи у пузатого казаха не было вовсе, но головой вертел бойко. Черным сощуренным глазом плавил стальную собачку на узком моем сапоге.
– Берешь зерно? – волшебный у казаха голос, степными частотами звучал в тесном Полинином кабинете.
Пшеница была кубанская, краснозерная, самых твердых сортов – то, что нужно Полине на макароны.
– Сору много, – сказала она и повертела листок с анализом у плоского казахского носа.
– Просеешь. Другого нет.
Если казахи привозят краснодарское зерно, стоит поверить, что другого скоро не будет. Свое уже всё продали или берегут: сидят баи на мешках и ждут, когда поднимется рынок (нынешние баи отлично разбираются в рынке).
– Где ты нашла этого Бориса? – не доверяю я казахам с краснодарским зерном.
Взгляд у Полины блуждающий, в полуулыбке: вот-вот расскажет чужую тайну.
– Соседкин хахаль. Живет у нее, когда бывает на местных элеваторах.
Платила Полина за минусом засора (думала: мордовка обманула казаха), а мука получилась темная и пахла сорной травой.
У самой Полины – не хахаль, а мужчина. Игорь – низкоскулый татарин. Не из волжских тюркских племен: по виду – натуральный потомок Батыя. Как только Полина отличает хахалей от мужчин, особенно когда глаза у них прорезаны почти одинаково? Жена (сгорбленная тень от нее осталась) приходила, кричала на весь Полинин подъезд по-татарски. Полине этих скверных слов не понять, только терпеть она долго не будет: давно бы уже усмирили скандалистку нужные люди, если бы не двое детей Игоря от крикливой татарки.
Уши у Полины маленькие. Красные всю последнюю неделю.
– Татарка проклинает, – вынимает она серьги из отекших мочек.
– Или зэки, – я всего лишь предполагаю: последнюю партию макарон из темной горькой муки увезли в Потьминские лагеря.