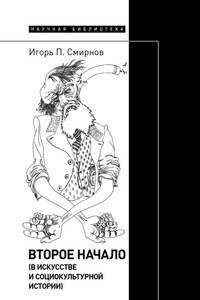Мне предстоит затронуть предмет, столь же неохватный по смысловому объему, сколь и мало исследованный. На вопрос, почему второе начало, о котором пойдет речь, ускользает от изучения, может быть дан только один ответ: потому что оно неотчуждаемо от нас, будучи нашей неотъемлемой собственностью – той, которую человек постоянно объективирует, не желая при этом признать, что она – его субъективное достояние, его способ бытия-в-мире. В качестве объективируемого второе начало входит обязательным компонентом в состав самых разных социокультурных практик – повседневных, идеологических, политико-организационных, технологических, эстетических и прочих. Оно, однако, утаивает себя, прячась от теоретизирования, как конституирующее субъекта, который вовсе не хочет быть финализованным, помысленным в своей завершаемости, что произошло бы в том случае, если бы его основа подверглась выявлению и объяснению. Субъект есть второе начало бытия, другое сущее, открывшееся себе, перешедшее в становление. Он замалчивает свою интенцию, чтобы оставаться действенным, чтобы быть.
Инициативно удваивая бытие в сознании-различении такового, человек отказывается согласиться со своей конечностью. Там, где есть второе начало, нет заключительных состояний. Ординарное начало с неизбежностью упирается в собственное отрицание. Какой бы ни была характеристика элемента, идущего в некоей последовательности за первым, он упраздняет начинательность в принципе и тем самым подразумевает ее полную исчерпаемость, пусть он даже и не оказывается последним в ряду. Со своей стороны, бесконечность предполагает, что она безначальна. Продублированное начало противостоит и финитности, и инфинитности. Оно отнимает предвещание конца у продолжения, в котором всякий шаг, следующий за первым, может стать последним, и помещает нас в незамкнутое пространство-время, применительно к которому вопрос о его пределе гасится, будучи подвергнут диалектическому снятию. Мы не знаем с полной уверенностью, как перспективирован этот хронотоп. Он выступает не вполне определенным для нас и вместе с тем неотрывно сопричастен нам, дающим бытию отправной пункт, которого у него до того не было. Та область, которую порождает второе начало, делается предметом веры более, чем знания. Человек получает, таким образом, в свое распоряжение инструмент борьбы с непреодолимым на деле – со смертью. Мы верим, что от нее можно спастись, если переиначить наше естественное происхождение (например, в обрядах инициации и крещения).
Преследуя сотериологическую цель, человек покидает природу, чтобы пересоздать ее в возводимой им социокультуре. В животном царстве второе начало совпадает с первым, коль скоро действия здесь навсегда запрограммированы инстинктом. Главная задача, решаемая в анималистической среде, – обзаведение потомством, т. е. возвращение к точке, от которой отсчитывается жизненное время особи. Даже если животное подходит к встающей перед ним проблеме изобретательно (скажем, используя орудия и всяческие уловки), оно извлекает из этой инициативы тот же результат, какой был бы получен в случае рутинного поведения, уравнивая тем самым разные начала относительно их назначения. В человеческом мире второе начало альтернативно первому как творящее до того небывалую реальность, не имеющую ничего общего с биологической необходимостью. Социокультура входит, как минимум 200 000 лет тому назад, в свои права в культе захоронений и предков, предполагающем, что, кроме бытия, есть и инобытие, простирающееся за порогом смерти. Живые подчиняют себя установке, состоящей в том, чтобы попирать смерть смертью (например, посредством приготовления мясной пищи на огне), очищать от Танатоса также ближайшую реальность. То обстоятельство, что второе начало делегируется в примордиальной социокультуре мертвым, объясняет, почему после появления на свет homo sapiens на долгие тысячелетия застыл в роли охотника и собирателя в своей посюсторонней активности, никак не обновляемой, стереотипной. Историчны усопшие; в дополнительном распределении к ним существование живых неизменно. Отголосок этого первобытного положения дел докатывается до Нового и Новейшего времени, как бы оно ни надеялось в своем неоправданном высокомерии быть рационально поступательным и только таким. Большинство людей и по сию пору участвует в истории в роли ее пассивных восприемников (если не считать революционных ситуаций), тогда как ее производство узурпируется элитами. История при этом очень часто моделируется в виде генерируемой не ее субъектом, а какими-то внеположными ему анонимными силами, будь то Марксовы производственные отношения, геополитические факторы или постмодернистские дискурсивные практики, сводящие на нет авторство. История с подобной точки зрения мертвит человека.
Переход от истории мертвых к истории живых совершается так, что устанавливает эквивалентность между теми и другими. Мифоритуальное общество заимствует у предков вчиненный им modus vivendi – быть в инобытии. Чтобы стать полноценным членом такого общества, человек обязан испытать символическую смерть в посвятительной церемонии, расстаться с данным ему от рождения телом, которому наносятся увечья, и обрести новую – как бы постмортальную – идентичность. Универсум тех, кого нет здесь и сейчас, и его зеркальное отражение в актуальной социальности связываются между собой отношением обмена. Из равносильности двух вторых начал – нездешнего и здешнего – следует, что все, что ни есть, представляет собой продукт творческого акта, демиургического деяния. Оно отчуждается от человека, коль скоро тот обнаруживает первоисток всего сущего, теряя себя, отрицая свое витально-непосредственное присутствие в мире. Человек приобщается времени творения косвенным способом – как рассказчик мифа о пангенезисе и его отдельных проявлениях. Повествование делается неотъемлемой частью социокультуры в той мере, в какой она отодвигает свою историю в прошлое, определяющее собой современность.
Свою главную функцию мифоритуальное общество усматривает в периодическом восстановлении акта творения. Разыгрывая демиургическое деяние в обрядовых постановках, архаический коллектив сопереживает его не только опосредованно, как в случае рассказывания мифов, но и напрямую, во плоти. Обряд сторицей компенсирует человеку понесенную им самоутрату, наделяя его сверхчеловеческими магическими способностями. Партиципировавший смерть человек продолжает, тем не менее, свое существование. Он спасен парадоксальнейшим образом – как соучаствующий в деятельности загробного общества. Подобно тому как он присутствует-в-отсутствии, первоисток – это такое прошлое, которое не только удаляется от настоящего, но и приближается к нему, входит в него, осовремениваясь. Время творения, уходящее от нас, чтобы вновь наступить, циклично. Homo ritualis принимает на себя роль хранителя абсолютного начала и гаранта его неиссякаемости. Называя человека «стражем истины бытующего»