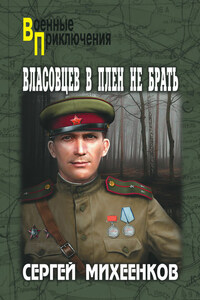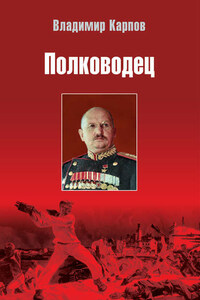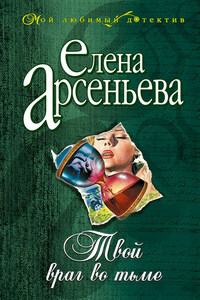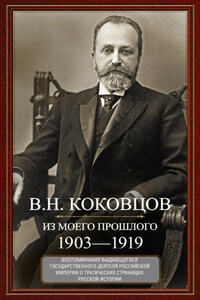В команде было двадцать человек. Восемнадцать младших лейтенантов, молоденьких, в новых гимнастерках, не утративших запаха складского нафталина, с рубиновыми кубарями на петлицах.
Ехал в этой же команде, кроме Ромашкина, еще один лейтенант – Григорий Куржаков. Он был лет на пять старше выпускников, отличался от них многим: служил в армии еще до войны, провоевал первые, самые тяжелые месяцы, был ранен, на выгоревшей гимнастерке его две заштопанные дырочки на груди и спине – влет и вылет пули.
Куржаков был худ, костистые скулы обтягивала желтоватая, нездоровая кожа, голова острижена под машинку, зеленые глаза злые, тонкие ноздри белели, когда его охватывал гнев. Казалось, в нем ничего нет, кроме этой злости, она то и дело сверкала в его зеленых глазах, слетала с колкого языка – Григорий ругался по поводу и без повода.
В отделе кадров Куржакова, как более опытного, назначили старшим команды.
Казалось бы, фронтовик, бывалый вояка должен вызвать уважение, любопытство у необстрелянных лейтенантиков. Но этого не произошло. Старший команды и выпускники с первой минуты не понравились друг другу.
Получив проездные документы, продовольственные аттестаты и список, Куржаков построил команду, чтобы проверить, все ли налицо. С нескрываемым презрением он смотрел на чистеньких командирчиков, морщился оттого, что они четко и слишком громко отзывались на свои фамилии.
Куржаков закончил проверку, громко выругал временно ему подчиненных и сказал:
– Нарядились, как на парад, салаги сопливые. Имейте в виду, кто в дороге отстанет, морду набью сам лично. Пошли на вокзал.
И повел их не строем, как привыкли ходить в училище, а просто повернулся и пошел прочь, даже не подав команду «Разойдись». Лейтенанты переглянулись и поплелись за ним. «Наверное, у них на фронте все такие, – подумал Ромашкин, – поэтому ничего и не получается. Какой же он командир – ни одной команды по-уставному не подал!»
В поезде Куржаков держался замкнуто, почти ни с кем не разговаривал, больше спал, отвернувшись лицом к стенке. Лейтенанты ходили по вагону, красовались, как молодые петушки, и казались себе отчаянными вояками. Старшего команды все же побаивались, вино пили тайком. Ромашкин, как равный в звании с Куржаковым, вынужден был занять место в том же купе, его втолкнули туда свои же ребята. Соседство было ему неприятно, портило настроение. Василий проводил время со своей братвой, на их местах, дымил папиросами, рассказывал анекдоты, всем было весело. После строгой дисциплины на курсах лейтенантов охватило чувство полной свободы и независимости. Если бы не этот Куржаков, поездка была бы прекрасной. О чем бы ни говорили молодые командиры, разговор то и дело возвращался к старшему команды. Ребята распалились не на шутку.
– Надо устроить ему темную, – предложил Синицкий, свирепо сжимая губы.
– Зачем темную, Васька ему в открытую врежет. Он лейтенант, и тот лейтенант. Равные по званию. Ваське ничего не будет, – рассудительно подсказывал Сабуров.
– И врежу, – подтвердил Василий, – у меня первый разряд по боксу, отработаю – сам себя не узнает.
– Жаль, оружия нам не выдали, а то бы я ему показал! – воскликнул Карапетян.
– Решено, братва, если Куржаков на кого-нибудь кинется, даем отпор!
Василий в свое купе вернулся поздно, в вагоне почти все улеглись. Куржаков выспался днем и теперь одиноко сидел у столика, перед ним стояли банка свинобобовых консервов и поллитровка, наполовину опустошенная. Как только он увидел Василия, ноздри его дернулись и побелели.
– Явился, не запылился, – сквозь зубы сказал Куржаков.
– Да, явился, – вызывающе ответил Ромашкин, – и не твое дело, где я был и когда пришел.
– Чего? Чего? – спросил Куржаков и стал медленно подниматься, хищно втягивая голову в плечи. В этот миг он был похож на Серого.
– То, что слышал, – бросил ему Василий и почувствовал, как от взгляда Куржакова в груди стало вдруг холодно. Но горячий хмель вмиг залил этот холодок, и Ромашкин уже сам, желая драки, шагнул навстречу.
– Отдал немцам половину страны, да еще выпендриваешься, героя из себя корчишь, фронтовик-драповик…
И сразу же на Василия посыпались частые удары, он даже не успел принять боксерскую стойку. Куржаков бил его справа и слева, бил с остервенением. На ринге Василий никогда не видел у противников таких неистовых глаз, он растерялся. А Куржаков, видно, совсем осатанев, схватил со стола бутылку и ударил бы по голове, если бы Василий не защитился рукой. Григорий стал судорожно расстегивать облезлую кобуру. И, наверное, убил бы Василия, если бы не кинулся с верхней полки майор да не навалились прибежавшие из соседних купе.
– Убью гада! – хрипел Куржаков, вырываясь.
Куржакова связали, его пистолет взял майор.
– Отдам в конце пути, – сказал он Григорию. – Успокойся. Остынь. Хочется тебе руки пачкать? – Майор зло глянул на Ромашкина и процедил сквозь зубы: – А ты, сосунок, мотай отсюда, не то я сам тебя вышвырну. На кого руку поднял? На фронтовика…
Остаток пути Василий старался не встречаться с Куржаковым.
Когда прибыли в Москву и отправились на трамвае искать свою часть, Григорий все время глядел мимо Ромашкина, будто его не существовало. Но желваки на худых щеках, злые зеленые глаза выдавали – Куржаков не забыл о случившемся.
– Почему вы нас так ненавидите? – вдруг наивно и прямо спросил Карапетян, когда вся команда стояла на передней площадке вагона и глядела на притихшие московские дома и полупустые улицы, перегороженные кое-где противотанковыми ежами и мешками с песком.
Куржаков сперва смутился, потом ответил негромко и твердо:
– Я себя ненавижу, когда смотрю на вас. Такой же, как вы, был питюнчик, пуговки, сапоги надраивал, на парадах ножку тянул, о подвигах мечтал… А немец вот он, под Москвой… На войне злость нужна, а не ваша шагистика. Надо, чтобы все наконец обозлились, тогда фашистов погоним. А у вас на румяных рожах благодушие. Война для вас – подвиги, ордена. – Куржаков сбавил голос, выругал их и вообще всех и закончил, глядя в сторону: – Убьют вас, таких надраенных, а немцев опять мне гнать придется.
– А тебя что, убить не могут?
– Меня? Нет.
– А это? – Карапетян показал на заштопанную дырку на гимнастерке.
– Это бывает – ранение. Зацепить всегда может, особенно в атаке. А убить не дамся.
– Чудной ты. Чокнутый, – покачав головой, сказал Карапетян.
– Ну ладно, поговорили, – отрезал Куржаков.
Ромашкину показалось, что Григорий объяснял это для него.
В части, куда прибыла команда, шла торопливая формировка. По казармам, коридорам, складам, каптеркам бегали сержанты и красноармейцы, все были одеты в новое обмундирование.