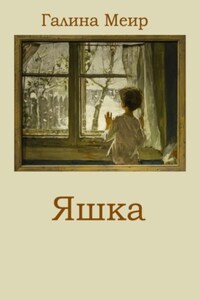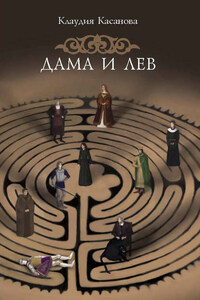«Раз, два, три, четыре, пять…
«Раз, два, три, четыре, пять,
Я иду искать.
Кто не спрятался – я не виноват…»
Из детской считалки.
Мир всегда упорно разделялся на своих и чужих. В пять лет, и в десять, и в пятнадцать, в семнадцать и в двадцать два, и в двадцать шесть и… Впрочем, нет. Пока ещё никакого «и» нет. Наверное, оно еще будет.
В пять лет своими были папа и мама, годовалая сестрёнка Муся и большой плюшевый мишка, которого папа привез ему, Якову, нет, тогда еще Яшке на день рождения. Ещё свои были: бабушка Соня, мамина мама, и бабушка Маша, мама папина. Поначалу, это казалось ужасно непонятно и чудно. Потом усвоилось. Свой был доктор Александр Михайлович, который наблюдал Яшку в больнице, когда их с мамой положили на операцию. Александр Михайлович почти всегда улыбался и часто разговаривал с Яшкой, не только расспрашивая его про самочувствие, но и вообще, про жизнь. Ещё свои были Тимка Бусин, Антошка Гейнц и Олька Муртазалиева. Они все вместе ходили в детский сад, в Яшкину группу. С Олькой их дразнили «жених и невеста», но Яшка не обижался и говорил, что когда вырастут, они с Олькой обязательно поженятся. Антошка Гейнц был самым близким другом, так считал Яшка, а как считал сам Антошка – было неизвестно, да, впрочем, Яша никогда об этом не спрашивал, всё было ясно и без этого.
Тима был в группе командир. Серьёзный, всегда красивый, опрятный, подтянутый, он верховодил в играх, и его часто ставили всем в пример за хорошее поведение. С Яшкой они иногда играли вместе, а иногда дулись друг на друга и даже дрались, но и при этом относясь друг к другу со сдержанным уважением. Но всё равно, Тимофей был свой. Своя была и воспитательница Галина Марковна. Умная, рассудительная, очень добрая (даже когда строго делала замечания).
А вот другая воспитательница, Алевтина Тимофеевна, своей уже не была. Не потому, что она могла накричать или часто сердилась, или не разрешала чего-то, вовсе нет. Алевтина Тимофеевна тоже была доброй, но как-то совсем по-другому. Как по-другому, Яшка тогда ещё не знал. Но границу чувствовал чётко. У него, вообще, с самого раннего возраста было какое-то особое чутьё на границы. Маленький он никогда не выползал за границу кровати, если случайно забыли поставить спинку, палец к горящей спичке подносил всегда так, чтобы было тепло, но при этом не обжигало. И даже один раз, бегая с мальчишками во дворе, чудом удержался на краю свежевыкопанной канавы, которую какой-то дурак вырыл прямо посреди улицы и наполнил водой. На самом деле, это меняли водопроводные трубы, но Яшка же этого не знал. А носился он, по словам мамы, как угорелый, ничего перед собой не видя. Да, не видя. Зато, чувствуя.
Понятие «чужие» появится у Яшки позже, потом, когда он станет Яшей, Яковом и даже Яковом Борисовичем. А пока, кроме «своих», были еще «не свои». К «не своим», кроме Алевтины Тимофеевны, относились тёти и дяди, двоюродные и троюродные братья и сёстры (несмотря ни на какое родство), остальные дети детского сада (и неважно, их это была группа или другая), весь остальной персонал хирургического отделения клиники, кроме медсестры Вали, молодой, с карими, удивительно тёплыми глазами. Она иногда играла с Яшкой, когда у неё было не очень много работы. «Не свои» были соседи, хотя и давно знакомые, привычные, но не свои. И еще, кроме «своих» и «не своих», был весь остальной мир, который уже никак не разделялся, а был просто так. Сам по себе. А Яшка – сам по себе. Будто не в нём, а рядом.
Вообще, пять лет было очень счастливое время. Раньше, до пяти, он, Яшка, сам не помнил, ему только рассказывали потом, когда он подрос. А пять лет помнил очень хорошо. С пяти лет начинался весь отчет Яшиной сознательной жизни. И устроена эта жизнь была хотя и вполне обыкновенно, но очень здорово. Утром – подъём, что рано – это ерунда. Яша почти всегда просыпался сам, иногда даже раньше, чем мама придет будить. Дом, в котором семья Борисовых занимала одну из четырёх квартир (комната, кухня, а в ней – настоящая печка, а ещё большая кладовка и целый садик под окошком) был деревянным и очень старым. Проснувшись, Яшка прислушивался, как скрипят ставни за окошком или половицы, а иногда просто смотрел на потолок, представляя себе всякие разные картинки: самолёт, небо с облаками или даже со звёздами и космическим кораблём. Надо сказать, что вечер Яша уже тогда любил больше, чем утро, и чётко понимал почему. Вечером небо становилось тёмно-синим, потом светло-фиолетовым и потом на нём зажигались звёзды. Они, как магнитом притягивали к себе Яшку, и, возвращаясь из садика, он часто шёл, задрав голову к этому синему небу, за что от мамы в очередной раз попадало: «Опять под ноги не смотришь!»
За подъёмом следовал процесс умывания, потом Яшу вели в детский сад, он находился здесь же, на улице через три дома и назывался «Солнышко». Яшке такое название почему-то очень нравилось, было в нём что-то ласковое и греющее. Распорядок в детском саду тоже был привычный. Завтрак, занятия, прогулка, обед, тихий час, полдник, прогулка, а потом уже наступал вечер и снова приходила мама (а иногда папа, как это было здорово), чтобы забрать Яшку домой. Здорово, когда приходил папа, было по одной простой причине: до дома можно было не идти пешком, а ехать верхом на папиной шее. Мама за это частенько сердилась и на мужа, и на сына: «Балуешь ребёнка!», но ни Яша, ни Борис Михайлович всерьёз это не воспринимали. В выходные, субботу и воскресенье, всей семьёй ездили к бабушке Соне через весь огромный город, или шли в зоопарк, или просто так гулять. Да мало ли ещё какие дела находились в выходные. Яшка часто гулял вдвоём с папой, когда тому не нужно было идти на работу. А работал Борис Михайлович на большом заводе. Работа была по сменам и отдых, далеко не всегда выпадал на выходные дни. Папе можно было задавать любые вопросы и вообще говорить о чём угодно. Рядом с ним всегда было просто, тепло, хорошо и очень надежно. И потом, папа никогда не дразнился, даже в шутку, даже в воспитательных целях.
Дело в том, что говорил Яшка очень плохо. У него был какой-то очень сложный медицинский диагноз. Это уже потом, когда вырос, он узнал про расщелину твёрдого неба и всё прочее, с этим связанное. А тогда ему это, естественно, было знать ни к чему, он и не знал. Не то, чтобы Яша совсем не умел говорить, ничего подобного. И читать он научился очень рано, ему, кажется, еще и четырёх не было. И тётенька с трудным названием «логопед» Яшку часто хвалила, что он понимает задания, с которыми и шестилетние-то дети не справляются. Просто-напросто, Яшкина речь была не очень понятной, а иногда и совсем непонятной, особенно когда Яша торопился. Сказать-то хотелось очень много, а как скажешь, если половину букв не выговариваешь, а другую половину говоришь так, что самому смешно становится. Яша однажды себя с магнитофонной ленты слышал. Но на самом-то деле не смешно вовсе, а грустно. Чувствуешь себя, как умная собака: всё понимаешь, а сказать не можешь. Кстати, привычка не проговаривать слова, в дальнейшем, превратилась в довольно любопытную, хотя и легко объяснимую особенность: устная речь была связанной и чёткой, а вот на письме, когда торопишься, начинаешь пропускать не только буквы, но и целые слоги или просто слово не дописываешь. Будучи взрослым, Яков себя на этом ловил постоянно. Поэтому старался всегда перечитывать написанное, прежде, чем кому-нибудь показать.